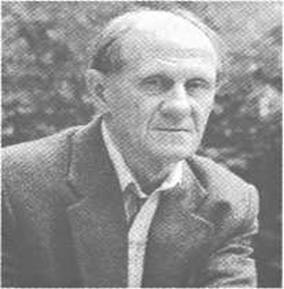Назад
На изломе
времён
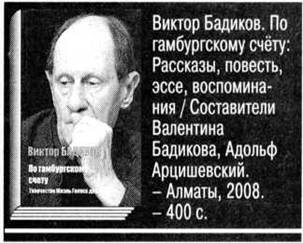 Случилось это во время служебной
командировки. Профессор Виктор Бадиков, прочитав лекцию перед школьными
учителями, возвращался на микроавтобусе домой. Виктор Владимирович сидел на
переднем сиденье рядом с шофёром. Попавший в лобовое стекло камень отвлёк внимание
водителя - микроавтобус врезался во встречную фуру. Так в Актау в автомобильной
катастрофе на 69-м году жизни трагическипогиб ведущий литературный критик
Казахстана, литературовед, эссеист, прозаик, доктор филологических наук, профессор
кафедры русской и мировой литературы КазНПУ им. Абая, автор монографий и
школьных учебников по русской литературе Виктор Владимирович Вадиков
(1939-2008)...
Случилось это во время служебной
командировки. Профессор Виктор Бадиков, прочитав лекцию перед школьными
учителями, возвращался на микроавтобусе домой. Виктор Владимирович сидел на
переднем сиденье рядом с шофёром. Попавший в лобовое стекло камень отвлёк внимание
водителя - микроавтобус врезался во встречную фуру. Так в Актау в автомобильной
катастрофе на 69-м году жизни трагическипогиб ведущий литературный критик
Казахстана, литературовед, эссеист, прозаик, доктор филологических наук, профессор
кафедры русской и мировой литературы КазНПУ им. Абая, автор монографий и
школьных учебников по русской литературе Виктор Владимирович Вадиков
(1939-2008)...
Не верю я беде,
слезам и горю, И без тебя обещанным годам. Я знаю, ты уехал просто к морю, На
синий Каспий, К белым лебедям... -
написала на
следующий день после похорон Надежда Чернова в посвящённом Виктору Вадикову
стихотворении «Чистый виноград». Это выражение было его любимым, ведь виноград
- символ Жизни, Веселья, Радости...
Его называли
последним донкихотом казахстанской критики и литературоведения. Он был
востребован всегда и всеми: творческой молодёжью, аспирантами, писателями, критиками,
журналистами, учителями, коллегами-филологами. Он работал в области социологии
и поэтики современной литературы Казахстана и русской литературы 20-х годов
прошлого века. С его предисловиями вышли десятки книг казахстанских писателей.
Его перу принадлежали сотни статей, эссе и рецензий, опубликованных в
республиканской и зарубежной периодике. Ведущий критик республики, он не
оставлял без внимания ни одного сколько-нибудь значимого явления в
казахстанской литературе.
Что для него
самого значил Казахстан? Об этом вспоминает Канат Кабдрахманов: «В 90-е годы,
когда началось время культурной разрухи, когда перед многими людьми не
казахской национальности встал вопрос, уезжать из Казахстана или не уезжать,
Виктор для себя сделал определённый выбор и не скрывал его. Он не раз говорил
мне, что оставшиеся ему годы проживёт в Казахстане. И не просто прожил. Все мы
знаем,что он активно работал в плане созидания новой национальной культуры
нашего государства, нашего нового человека. И поскольку все мы в той или иной
мере причастны к становлению новой культуры, нам остаётся лишь продолжить то
дело, которым неустанно был занят Виктор Владимирович».
А что значил он
для Казахстана? Абдижамил Нурпеи- сов: «Боюсь, такие утраты будут всё более
невосполнимы, поскольку время душевно интеллигентных людей невозвратно
уходит. И от сознания этого становится горестно вдвойне».
Книга памяти
Виктора Вадикова, созданная его друзьями и коллегами, полна душевных
откровений и признаний в любви тому, кому при жизни всё это не успевали или
стеснялись высказать. Издание включило в себя рассказы и повесть, эссе и
литерагурно-критические статьи из сборников В. Вадикова «Мастерство и правда»,
«На изломе времён», «Новые ветры» и вновь написанное, слова прощания с
Виктором Владимировичем тех, кто близко знал его при жизни. При этом, как
уточняет Адольф Арцишевский, «книга, что вы сейчас держите в руках, - всего
лишь малая толика сотворённого им... Она лишь крик боли наших с вами израненных
душ».
...Он ушёл из
жизни 23 апреля. На календаре значился Всемирный день книги и защиты авторского
права. А значит, Виктор Вадиков остался раз и навсегда на занятом им посту -
посту защитника книги и слова.
Александр ВАСИЛЬЕВ
Я ищу тебя
Виктор Бадиков
Памяти Нины
Кальдяевой-Троицкой
Вновь не забудусь я: вполне
упоевает
Нас только первая любовь.
Е. Баратынский
I. ПОЕЗД
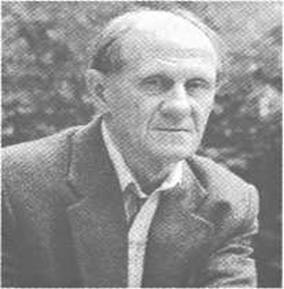 Это история подлинная, и заголовок тоже. Так назывался
западногерманский фильм 50-х годов, который показывали однажды в нашем железнодорожном
клубе. История любви, прерванная приходом к власти фашистов: ученый физик ищет
Ее, и чем ближе он к своей цели, тем больше отдаляется от нее. Сильные
драматичные эпизоды фильма сопровождал «Фантазия-экспромт» Шопена.
Это история подлинная, и заголовок тоже. Так назывался
западногерманский фильм 50-х годов, который показывали однажды в нашем железнодорожном
клубе. История любви, прерванная приходом к власти фашистов: ученый физик ищет
Ее, и чем ближе он к своей цели, тем больше отдаляется от нее. Сильные
драматичные эпизоды фильма сопровождал «Фантазия-экспромт» Шопена.
... Куров
запомнил его на всю жизнь и, когда вернулся к музыке, время от времени
наигрывал его для себя, хотя технически справлялся только со второй медленной
частью.
И вот теперь,
спустя много лет, едва ли не целую жизнь, понял его мощное, тайное очарование.
Но речь не о музыке, хотя как можно без нее! По многим причинам он остался в
музыке дилетантом и давно привык к этому, как привыкают к службе, климату,
квартире и жене. Даже к самому себе...
Перед отъездом
Куров собрал фотографии тех лет, сохранившиеся письма. Они уже ни о чем не
говорили ему. Было и прошло. Хотел даже взять парочку с собой, чтобы при случае
удостоверить свою незабывчивость, а в тайне, конечно, сравнить, осталось ли в
этом лице что-нибудь от прошлого. И можно ли это прошлое хотя бы мысленно, хотя
бы на мгновение вернуть.
«Зачем?» -
подумал он и ничего с собой не взял. В суеверном опасении, что, как всегда, в
таких случаях впадает в самообман.
Все шло своим
рутинным чередом.
Поезд отправлялся
из южной столицы с опозданием в сорок минут в тридцатиградусную жару.
Кондиционеры в купе, конечно, не работали, проводники набивали вагон
безбилетными пассажирами. У Куро- ва в попутчиках оказались два разговорчивых
китайца и молчаливый замкнутый казах. «Вместе со мной, — подумал Куров, —
полный комплект главных партнеров. Но китайцев, как всегда больше».
Англоговорящий раздевался до синих мужских панталон, напомнивших славную эпоху
советско- китайской дружбы и китайского белья «Дружба», но панталоны мы закупали
только для женщин, мужчины обходились кальсонами, а в жару — семейным сатином.
Англоязычный все время что-то фотографировал через окно. Русскоговорящий
охотно пошел на контакт с Куровым. Оказалось, они с ним ехали в один город, китайцы
были временными сотрудниками Мунайгаза, ели свою китайскую лапшу и консервы, пили
же нашу питьевую магазинную воду из 5-литровой пластмассовой канистры. До конца
пути не хватило, но они ходили к своим попутчикам, в соседнее купе. Курову
пришлось открыться Линю: ехал с инспекторской проверкой областного вуза,
накануне тестов среди студентов и школьников. Того самого ЕНТ, который Куров в
душе ненавидел и считал профанацией высшего образования, но об этом помалкивал,
«не высовывался». Однако при случае напоминал в разговоре, что не все обезумели
в приступе модернизации и оптимизации вузовского образования на западный лад.
Ректор МГУ, например, открыто наплевал на тесты и принимал вступительные и
выпускные экзамены по старому - устно и письменно. Вот вам и рутина, спасающая
вузы от бюрократической демагогии и деградации.
Но думал он и о
другом. Как бы машинально, не позволяя себе размечтаться.
А вдруг она там,
в их школьном Городе, где их свела сама судьба, и откуда он уехал в столицу,
поступать в университет? И возвратился он только раз, после первого семестра. А
собирались (правда, как-то неуверенно) уехать вместе и даже — об этом вслух не
говорилось — быть вместе на всю жизнь.
... Встретиться
спустя почти 30 лет? «Где ты был, Адам?» Где только не был, даже за границей
успел поработать, но все пути лежали мимо их школьного Города. Нет, дело не в
этом, попросту она ушла из его жизни, казалось, навсегда, и если фотографии ее
случайно попадались, Куров уже не видел в этом лице ничего, что его волновало.
Прямо-таки «до обмирания». Надо же! В голову сама собой пришла мысль о том,
что Н. как женщина, наверно, была его «типом». Все жены Курова (две официальных
и примерно три гражданских) лицом и характером слегка напоминали ее: умное
холодноватое лицо с глубокими глазами и очень женская, т.е. непредсказуемая
натура — скрытная и потому волнующая. Фигура? Она была среднего роста,
плотного телосложения, но в ее движениях, тихом голосе и упругой сдержанности
была особая слаженная гармоничная легкость, предощущение полета, что ли. Куров
был не знаток по части женщин. Многое чего казалось. В те годы перед девчонками
благоговели, боялись их и не знали, как привлечь их внимание. Потому вниманием
их дорожили. Тогда, после смерти Сталина, раздельное по полу обучение
прекратили, в седьмом классе их мужскую 45-ю школу соединили с женской 44-й.
Школы стояли друг против друга, но расписание составлялось так, что перемены не
совпадали...
...здесь Куров
потерял мысль и стал бездумно смотреть в окно. В поезде обычно много едят,
спят и картежничают. Теперь то и дело болтают по «сотке». Ну, китайцы — ладно,
они в командировке, при исполнении, а наши — просто от нечего делать. «И
откуда деньги берут?» — риторично ворчал Куров. Впрочем, внимание его, особенно
на сто
янках, некоторое
время отвлекала юная национально-контрастная пара. Очень миловидная и
стройная, в тесных панталончиках казашка, скорее метиска, и русский
светловолосый парень, почти не отходивший от нее. Он чуть ли не за руку водил
ее по перрону и покупал все, что она хотела, вероятно, испытывая при этом
особое наслаждение. Куров украдкой любовался ее фигуркой, особенно чуть
выпуклым устьем ног и бедрами. Правда, черные панталоны-облипалы ослабляли
впечатление. Куров стыдил себя за «мужской цинизм», но все равно взгляд его
автоматически переключался надам в светлых, тоже тесных полубрючках, под
которыми просматривались только белые «уздечки».
«Да, вздыхал он
про себя, — блажен, кто познавая женщину, был охранен любовью». Где-то он это
«зацепил» и сразу запомнил по аналогии с Пушкиным: «блажен, кто с молоду был
молод. Блажен, кто вовремя созрел». И здесь и там главным словом было
«блажен». Куров тут же вспомнил великие уже привычные слова: «Блажен, кто
посетил сей мир В его минуты роковые...» Не поленился посмотреть комментарий:
оказалось в первом варианте у Тютчева было — «счастлив». Второй вариант Курову
показался единственно возможным. А, заглянув в словарь, он окончательно в этом
убедился: «Блаженство - полное невозмутимое счастье; наслаждение». Главное —
невозмутимое и — наслаждение.
В «Аральском
море» (так еще называлась станция, символизирующая своими солончаками
исчезнувшее море) он купил свежежареного, еще теплого сазана и почувствовал
радость вкушения любимой пиши: «А запивать буду кок-чаем, как всегда в такую
раскаленную духоту». Но дождался вечера, когда солнце село и в гремящем
сквозняко- вом вагоне, наевшись и наговорившись, все стали отходить ко сну. Это
у него называлось «продлять» или «растягивать» удовольствие. Куров считал, что
все в жизни, по возможности, должно быть желанным, т.е. заслуженным после
кропотливой работы или терпеливого, выношенного ожидания...
Поезд, слава
Богу, был скорый.
С ровным
гудением он летел по бесшовным рельсам и скороговоркой «скакал» на стыках. Это
утешало, потому что бесконечно шли за окном полупустынные жаркие места,
казалось, совершенно безлюдные. Они своей неохватностью и вольной природной
дикостью вызывали томительное ощущение остановившегося времени. Но Куров машинально
взглядывал на часы и понимал, что ошибается. И тогда глубинный холодок
языческого страха возникал внутри. Перед ним был даже не символ, а собственный
лик вечности. Казахам он понятен и греет, вероятно, душу. Как не насилует их
цивилизация, они все еще остаются соприродными людьми. «А для нас, — пытался
додумать свою мысль Куров, — человек — друг собаки, только и всего. Писал же
Чехов своей жене «Здравствуй, моя собака».
Хотя причем тут
Чехов, он его, пожалуй, толком и не читал. Скоро совсем перестанут читать,
писать письма и книги. Для общения и понимания вечности хватит и «сотки». И
чего тебе надо в этом давно забытом тобой Городе? Ничего, твердил себе Куров,
ничего, еду в командировку, и вечность едет рядом со мной в лице молчаливого
казаха. Зашел, даже не поздоровался, не сказал, куда едет, ни к кому не
проявил никакого интереса, поест и на вторую полку. Единственное, на чем Куров
его «засек», когда неожиданно заглянул в купе, — это мгновенное любопытство к
книге, которая лежала на столике. Он даже приоткрыл обложку, как бы желая в
точности удостовериться, чем живет Куров, помимо кок-чая и жареного сазана, что
у него на душе. Но тут же захлопнул без всякого интереса. И Куров напрасно ждал
каких-то вопросов. Неизвестный пассажир на второй полке продолжал свое
параллельное, но автономное существование. Свое движение в неизвестность.
В сущности, как
и Куров.
«И все-таки я
видел ее дважды полунагой, причем глаза в глаза».
Куров только
теперь, «на склоне лет», осознал, как велико было в отрочестве влечение к
женщине, как властно требовало оно естественного выхода. Пожизненный крест
мужчины, но тогда это выражалось иначе...
Уроки у девчонок
заканчивались на двадцать минут позже. Мальчишки поджидали их в придорожном
кустарнике и стреляли по ногам проволочными пульками из резиновых рогаток. Это,
пожалуй, было больно. Они кричали, плакали, проклинали и угрожали жаловаться самому
директору, но, тем не менее, никогда не меняли своего маршрута из школы, как
выяснилось впоследствии, даже знали по именам тех, кто особенно часто
«охотился», выделяли их среди более скромных завидующих «наблюдателей».
А когда мужские
и женские школы объединили, то, несмотря на бойкот — сидеть парами, на чем
настаивал классный руководитель, начались такие красноречивые, тайные и явные
«отношения» — поиск своей пары, что дело нередко доходило до откровенных слез и
драк. «И это делало школу самым притягательным местом в нашей жизни», —
радостно вспоминал Куров. На уроках по партам ходила толстая тетрадь, в
которой нужно было анонимно ответить на вопросы, какой мальчик (девочка) тебе
нравится вообще и в частности, почему, ходишь ли ты на танцы или в кино, веришь
ли в вечную любовь, женишься ли (выйдешь за муж), если полюбишь...
Курову
понравилась сначала высокая голубоглазая Альбина, в соответствии с именем
почти альбиноска, у нее даже ресницы были белые. Может, именно это и решило все
дело, но Куров пребывал в сомнении только до тех пор, пока не появилась она.
Она почему-то появилась позже, но сразу же, бесповоротно «увела» за собой.
Куров сразу же опознал ее почерк в вопроснике, для него стали уникальными цвет
ее черного фартука и коричневого форменного платья, со стоячим белым
воротничком, слегка неправильный прикус, отчего подбородок чуть выдавался
вперед и вся неповторимая и невыносимо чарующая грация движений, которая была
ничем иным, думал сейчас Куров, как жиз- непроявлением ее особого существа. Имя
которого заставляло его всякий раз вздрагивать, когда его вообще произносили.
«Аналогий» ей не было, хотя теперь, подначитавшись, он вспоминал только Лару из
«Доктора Живаго», но больше музыку вальса из одноименного американского,
кажется, фильма.
Куров, бедняга,
был оглушен и потерян, его мучила неспособность привлечь ее внимание, он
казался себе уродом, все валилось из рук, он стал терять авторитет отличника. И
он стал ревнив, он следил за каждым ее движением, репликой и улыбкой в
сторону, не имея на то никаких прав... Она сразу все поняла, но держала его на
расстоянии.
«Боже, неужели
это было?» — думал Куров, не спя от качки и железного грохота и забываясь,
когда поезд, словно споткнувшись, безмолвно застывал в ночи на какой-нибудь
большой станции. Звонко тенькали молоточки колесников-обходчиков и раздавался
усталый голос маневрового диспетчера: «Пятый принимаем на второй путь»... «Хорошо,
что принимаете», — мысленно отвечал Куров, доставая таблетку валидола...
«Почему так
тянуло к ней, и не только меня?». Да, их было три сестры. Неуловимо похожие,
но все-таки разные. И непонятно было: от младшей или от старшей шло по
нарастающей волнующее тепло женственности. Вокруг двух старших уже кружились и
кругами расходились разговоры и слухи о поклонниках и романтическом своенравии
девушек. Младшая держалась скромно, но тоже, как магнит, без усилий наивного
кокетства притягивала к себе своей скромностью и своей недоступностью. Курову
иногда казалось, что она еще до объединения школ, «дружила» (как тогда
говорили) с мальчишками. А в их классе многие скрыто ластились к ней, а иные,
например, Мишка Емельянов открыто фамильярничал и заигрывал.
Но она со всеми
держалась ровно, порой одаривая светлой располагающей улыбкой, от которой у
Курова страшно сжималось и холодело сердце. Потом, когда все у них сладилось и
вошло в свое сокровенное русло, мать Курова, прослышав о его увлечении,
неожиданно воспротивилась их отношениям. Причем с чисто женской находчивостью
и проницательностью, собрала довольно серьезный компромат на нее, кстати,
подтверждающий кое-какие опасения Курова. Он поначалу остолбенел, когда мама,
которой он так доверял и втайне любовался (это сейчас он понял, что все его
близкие женщины на самом деле поддерживали в его психофизике, продляли женский
тип его мамы), вдруг «наехала» на него с решительным, просто категорическим
требованием немедленно порвать с Н.
Куров первый раз
в жизни наорал на маму, едва не расплакался от какого-то чудовищного,
несправедливого «вмешательства в его душу». Да! Что-то в этом роде твердил он
ей в свое оправдание, чуть не плача еще и оттого, что переубедить или
умилостивить мать оказалось бесполезно. Как в детстве, она «ставила его в
угол» за провинность, которой не было, которую он не совершал. Теперь Куров
понимал, что это был ее упреждающий ход. Но кто мог сообщить ей о том, что они
с Н. пытались, накануне выпуска, робко заглядывать в будущее, которое раздельно
(как мужская и женская школы) для себя не представляли? Кто?
Или мама своим
женским чутьем что-то уловила в его поведении? Да-да, он все чаще стал
упоминать ее имя дома. «Простодырый ты», — воспитывали потом его друзья-студенты,
— «не гибкий». Но ведь он должен был встречаться с Н. не только в школе, они
уже не только сидели за одной партой, ходили в кино и на танцы в «ж.д. клуб» и
даже городской парк, на каток. Куров еще ходил к ней на свидания! Чуть ли не
каждый вечер! Мыслимо ли было все это прекратить, остановить? Равносильно
самоубийству...
Не спалось. Он
вышел в туалет, покурил в тамбуре и решил немного постоять в пустом коридоре у
открытого сверху окна. Поезд то ровно гудел, то «скакал», теплый ночной ветер
врывался в коридор, тщетно выдувая духоту, вагон бросало на стрелках, валило
на виражах, и Куров суеверно помолился за машинистов: шутка ли, в кромешной ночи,
в железных ящиках на колесах, со скоростью 70—80 км. неслось, по крайней мере,
до полутора тысяч людей!.. Каждое мгновение риск, но мы, современные
технократические язычники, не боимся, не думаем о непредвиденном. Привыкли,
хотя оно всегда сопутствует и где-то, не дай Бог, подстерегает нас...
Мама вряд ли опасалась
его близости с Н.. Куров и сейчас был уверен, что эти дела тогда были для них
за семью печатями. Мама воевала против «дурного влияния», она сама выразилась:
ведь Куров был ее единственным сыном, она души в нем не чаяла, гордилась его
разносторонними способностями (рисовал, играл на пианино, занимался лыжами и
баскетболом, писал стихи) и отличной учебой. Она, как бессонный диспетчер или
светофор, направляла его по верному и надежному пути, предотвращая сбои и
помехи в его движении-взрослении. Она украдкой, перед сном, тоже молилась за
него шепотом, хотя была опытной хирургической сестрой и, когда в пятом классе
Курову удаляли срочно аппендицит, добилась разрешения присутствовать на
операции. Даже попросила показать ему этот самый «аппендикс», как говорят
медики. Так же, еще раньше, до школы, по ее настоянию ему вырезали гланды, и
таким образом, Куров вступал во взрослую жизнь слегка порезанный, но с запасом
здоровья на будущее... правда, с «завязанными» глазами.
Она рано привила
ему порядочность и честность, трудолюбие и, наверно, хотела ввести в мир и
жизнь женщины по-своему, постепенно. Это, в ее понимании, был мир маленькой
удачливой и самодостаточной семьи, в которой полной хозяйкой, главным человеком
была женщина, она сама, его мама. Специально или нет, он так и не решил до сих
пор. Она до определенного возраста купала его сама и устраивала «семейную
баню», когда они мылись втроем, т.е. с отцом, который как железнодорожник
постоянно был в командировках и потому семейная помывка была как бы маленьким
очищением перед праздником встречи. По привычке, Куров-ребенок не обращал
внимания на голизну родителей, но вдруг однажды в три или четыре года его
потрясла разность этой голизны и поразила как-то необыкновенная, пугающая
женская нагота с черным тайным треугольником в устье ног. Куров хорошо помнит,
как на мгновенье оторопел, глядя на маму, и она это тут же заметила, повернула
его спиной, чтобы потереть ему спину, хотя они с отцом это уже сделали. Так
оборвалась недолгая традиция «семейной бани». Так возник в его жизни стыд,
впрочем, сразу же обернувшийся жгучим, затаенным интересом к противоположному
полу. Но теперь мама очень тактично и тщательно держала его в узде — никогда в
его присутствии не переодевалась и не позволяла себе (даже дома) никакой
небрежности в одежде. Так «открылись» у него глаза на женщину как на что-то
необыкновенное и прекрасное, но в высшей степени запретное. Но эдиповым
комплексом он, кажется, не страдал. Долго мучило его другое — неловкость,
скованность и страх инициативы в отношении с женщинами. Ложный комплекс
неполноценности, как определила однажды умная, более взрослая его
приятельница. Он же со временем понял, что это был комплекс инфантилизма,
возникший, может быть, по причине советской профанации нравственности в отношениях
мужчины и женщины, согласно которой горячая трудовая дружба сама собой
переходила в здоровую трудовую семью, в которой, между прочим, сами собой
появлялись дети. Личину бесполости нацепило нам общество, заставив тайно
подсматривать друг за другом, мучиться комплексом подавления пола. Немало
нужно было прожить, чтобы убедиться в простой истине — мужчина и женщина
созданы друг для друга, а не для партии и государства... Ну теперь-то все,
конечно, изменилось. Новое общество предельно обнажает женщину, превращая ее в
безликий сексуальный объект, готовый к использованию. Надо же, надевать под
тонкие тесные белые брючки — стринги, чтобы мужикам казалось, что она идет по
улице без плавок? Смотри, но делай вид, что ничего не видишь! Куров даже
придумал парафраз, свою хохму по этому поводу - «О закрой свой невинный
пупок!». Но хохма почему-то успеха не имела, и Куров «закрылся», чтобы не
считали его «старым развратником»...
Он осторожно
проник в душное купе, глотнул теплой минералки, положил еще одну валидолину под
язык, чтобы уснуть, но уснул не сразу. Шла вторая, последняя ночь перед его
приездом в Город. Он уже привык к поезду, к вагонному быту, даже к жаре, и
отвык от дома — дорога уводит с собой, дорогой даже «лечатся», как Гоголь. А что
ему, Ку- рову, «лечить»? Лишь бы сердце не подвело. Лишь бы нервы не мотали
всякие чиновники от науки и образования, адушу уже не вылечишь. «Жизнь
миновалась, молодость прошла... Твое лицо в его простой оправе Своей рукой
убрал я со стола»... Куров попытался мысленно представить, вызвать из памяти
лицо Н., но безуспешно. И стал суеверно заклинать, уговаривать себя: не
вспоминать, не думать, не обольщаться, не ждать ничего особенного, тем более
приятного, потому что все обычно случается наоборот, вопреки желаниям и
надеждам...
Заклинал, а сам
одновременно думал - какая она стала теперь? Узнает ли он ее, никогда не
менявшуюся для него Н.? Седина, полнота, возможно блеклая кожа лица и «гречка»
на руках. Но глаза-то все те же, Куров в этом ничуть не сомневался. И ее
неправильный прикус. Захочет ли она с ним встретиться, ведь столько времени
прошло и в последний раз он, конечно, обидел ее? Замужем ли? Дети. Наверно,
уже и внуки. Нет, вроде бы рано. В таком возрасте женщина обычно успокаивается
и смиряется со своей судьбой, появляется усталость от прожитого, и не только
от сбывшегося...
Интересно, кто
ее муж? Ушинский? А может быть, в разводе. Скорее всего, нет. Тогда после
школы, перед отъездом на учебу, он осмелился предложить ей свой «план». Они вместе
едут в столицу и поступают: она в медицинский, он — на журналистику, а потом
женятся, «можно и сразу» — с трудом добавил он. И предчувствие его не обмануло.
Н. приняла «план» спокойно как один из возможных вариантов, который пока
невозможен. Она еще не знает, будет ли в этом году поступать, и потом отпустят
ли ее родители в Алма-Ату. У Курова опускалось сердце: о главном пункте плана
она вообще ничего не сказала, или он слишком робко об этом сообщил? По правде,
Куров и сам себе очень смутно представлял, как это они будут устраиваться,
поступать и жить в большом неизвестном городе. У Курова там была только одна
зацепка — родная по матери тетка. Но как их примут вдвоем? И если мама уже
списалась с теткой, своей родной сестрой, то естественно только насчет его
одного. Сказать ей про Н. значит вызвать бурю негодования, целый скандал. Их
будущее уже тогда «повисло в воздухе». Н., подумав, мудро утешила его тем, что
учиться можно и в разных городах, а потом видно будет, «ведь мы же не
собираемся расставаться?»
Что ты? — испугался он
Ты же любишь меня? Ты мне будешь писать?.. — И посмотрела на него
«особенно», доверчиво, как ему нравилось.
Так она
облегчила и здраво упростила безвыходную для Курова ситуацию.
... Ну,
предположим, она отзовется, согласится с ним встретиться. Что тогда? - замирал
и терялся в догадках Куров. Что он скажет ей? О чем вообще говорить? Ах, —
вздыхал он уже во сне. И снилось ему, что она где- то рядом — то ли за дверью
стоит, то ли раздевается в прихожей, но он не видит ее, только чувствует, что
она пришла. О! Это уже добрый знак. А он даже не подготовился к встрече, ничего
не купил вкусного, никакого вина. И со стыдом корил себя: запретили тебе
врачи, так ты и жадничаешь.
Радостно и
беспамятно суетился, с ужасом соображая, что ведь надо было позвать и других
своих одноклассников, ведь их снова принимают в школу, потому что утвердили
только что новую программу 11-летнего обучения, и ему, Курову, или
ответственному лицу Академии образования, поручили всех собрать в их Городе, а он
только ее предупредил об этой торжественной официальной встрече. Ну,
ничего-ничего, утешал он себя: она же знает всех, кто остался в Городе, они
сейчас обзвонят... Вот ведь как удачно все совпало, радовался про себя Куров, —
и свидание, и прием в 11 класс, и лихорадочно вспоминал фамилии школьных своих
друзей — Петровский, Князькин, Сафин, Седлецкий, Реш, Абрамсон... Почему не
все? — выговаривал ему президент Академии, всегда благоволивший к нему и
устроивший ему инспекторскую поездку в Город. - «Чего это он? — соображал
Куров, — Я же не знаю их адресов, я не сумел их заранее предупредить!» — «А вот
за это вы и ответите. Государственные деньги на ветер пускать?!». «Какой
ветер»? — не понимал Куров.
Как это какой - попутный!
— Маке! Вас не
правильно информировали. Я все объясню... Мне только нужно переговорить с одним
человеком. Меня ждут. Я слышал, как хлопнула дверь, я сто лет не видел этого
человека, — решился на откровенность Куров и, как всегда, в своих снах стал
попадать не туда, куда ему было надо! Но не огорчался, потому что знал, что она
ждала его...
В эту последнюю
ночь Куров спал особенно сладко. Его разбудили голоса и суета в купе, зычный
голос проводника «Постель давай!». Поезд стоял на какой-то небольшой станции,
в окне зеленели поля и деревья, утро было свежее, основную жару уже проехали.
Китайцы весело щебетали, забывая, как показалось Курову, про звук «Р». Он
посмотрел на часы, еще два часа езды. Но Линь его поправил. Куров, как всегда,
ошибся: его Город находился в другом часовом поясе. Здесь время на час
опережало столичное, по которому он ехал и ориентировался. До прибытия
оставалось меньше часа. Линь неожиданно предложил ему свою визитку. Куров
слегка растерялся, потому что собственной визитки не имел, но поблагодарил и
сказал:
Ну вот, теперь у меня в этом городе есть свой человек!
О да, в голоде — целявек... в голоде! — радовался китаец...
ГОРОД
Бисмилля! - сказал по восточному обычаю Куров, выходя со своей дорожной
сумкой из вагона. Его встречали представители университета и даже акимата. В
их команде был человек знавший Курова по Алматы.
После кратких и
крепких рукопожатий, приветственных слов и предупредительных улыбок они
подхватили его сумку, и, как телохранители, повлекли его сквозь толпу, через
вокзал и запруженную машинами привокзальную площадь к «Жигулям». Оказалось,
встречавшие приехали даже на двух машинах, потому что после Курова — должны
были ехать в аэропорт к прилету второго инспектора, из Астаны. «Значит, жить буду
в паре», — без удовольствия отметил Куров. Но когда его привезли в гостиницу и
ввели в просторный двухкомнатный номер со всеми удобствами, он махнул рукой на
вынужденное соседство, тем более что вторую комнату, спустя полтора часа,
занял не кто иной, как его сокурсник по университету, ставший уже академиком.
Славный приветливый человек, несмотря на все свои титулы, Бахытжан ему
обрадовался, обнял, засыпал вопросами, после чего неожиданно объявил, что через
два дня возвращается в Астану для встречи большой делегации из Германии.
Но ты не грусти, мы тебе какую-нибудь старушку найдем, скучать не
будешь! - пошутил он при всех.
Мне-то ее как раз и не хватает, - отыгрался Куров. - Академика
подсунули!
Бахытжана тут же
увезли к родственникам за город. Куров на его уговоры ехать с ним не поддался,
сославшись на усталость, но еще и потому, что день приезда встречавшие объявили
нерабочим. Об этом он даже не мечтал!
На периферии,
слава Богу, не торопятся жить.
Его везли с
вокзала по незнакомому зеленому Городу. Он здесь не бывал. Ему объяснили, что
это действительно новый город. Широкие улицы, высокие 10-ти этажные дома,
просторные кварталы, с разнообразными супер- и мини-маркетами, кафе,
рестораны, архитектурно оригинальный стадион. Только гигантские буквы WIMPEXS
на одной из высоток вернули его в привычную постсоветскую действительность,
кто-то пояснил:
Мы в Казахстане водочные монополисты
Молодцы! - одобрил Куров, хотя водку давно не пил и думал о другом:
«Неужели того Города нет?».
Для него с
детских лет, Город вообще начинался с железнодорожной станции, с вокзала, с
круглосуточной и разноголосой жизни железной дороги. Он еще застал паровозы,
гулко и протяжно гудевшие, окутанные паром, натужно пыхтевшие на подъеме или
при наборе скорости. Потом стали чадить соляркой тонко свистящие зеленые тепловозы,
и по-новому, каким-то хроматическим аккордом сигналить электровозы, мгновенно
разгонявшие самые большие составы. Отец несколько раз брал его еще дошкольника,
в недолгие командировки, и Куров уже тогда знал, что такое «колесная тележка» и
«колесная пара», «букса», «буферные тарелки», «реверс», «дышло», «бегунки».
Они и жили всегда поблизости от депо или вокзала, а в этом Городе в одноэтажных
из «резанного» кирпича домах, которые в те времена называли распространенным
словом «бараки».
Н. жила со
своими сестрами в таком же бараке, отец ее тоже имел какое-то отношение к
железной дороге. Гораздо позже Куров откроет для себя Пастернака, и навсегда в
памяти останутся необычные, но очень точные строчки:
Вокзал!
Несгораемый ящик
Разлук моих, встреч
и разлук, Испытанный друг и приказчик — Начать, не исчислить заслуг...
И как только он
остался в номере один, его потянуло на вокзал...
Старый вокзал
снесли, на его месте стояло более высокое и просторное здание, но чужое и
какое-то архитектурно нелепое. Город со своим новым личным и общественным
транспортом вплотную придвинулся к вокзалу, задавил его суетой и автопробками.
А раньше привокзальная площадь как бы переходила в улицу Карла Либкнехта,
поднимавшуюся в гору, а весь зеленый одноэтажный Город сразу открывался приезжему
во всей своей бесхитростной частной застройке, и весь был виден вперед и по
сторонам. Самым высоким зданием, оставшимся еще от 20-х гг. был как раз
железнодорожный клуб, тоже для Курова «не сгораемый ящик». На горе, в конце улицы
Либкнехта, тогда стояло новое трехэтажное здание их 45-й, тоже железнодорожной
школы.
Он не удержался
и пошел сначала влево от вокзала. Обогнул два здания, за ними открывался ряд
старых болотного цвета бараков. Она жила в каком-то из них. Но в каком? Многие
дома на скорую руку были переоборудованы под офисы, другие больше походили на
заброшенные складские помещения. Куров стучался, спрашивал, извинялся. На него
смотрели то равнодушно, то враждебно. Ее фамилии никто, конечно, не знал.
Впрочем, за тридцать лет многое может перемениться
и дома, и люди, и фамилии, тем более женские. Он это понимал, но еще
надеялся на чудо или случай. Он даже подумал, что может встретить Ее на улице
и не узнать. Может быть, уже и встретил, и преспокойно разминулись.
Пройдя несколько
раз эту недлинную барачную улицу, Куров с горечью убедился в том, что он
напрочь забыл, как выглядел ее дом. Осталось смутное впечатление чего-то
уютного и томительно влекущего, слева была какая-то зелень вроде сирени, в
торце дома — крытое, с перилами крыльцо, три приступки, широкая дверь, в
которую Куров бережно и робко стучался, вызывая ее. Она выходила в чем-то
домашнем
халатике, шлепанцах; и без школьной формы казалась умилительно родной и
близкой. Если было прохладно, что-то набрасывала на плечи, вроде отцовской
телогрейки, и ему хотелось еще чем-то ее укрыть и согреть. Позже она стала
позволять расстегивать ему свой пиджак или шинель (он носил уже отцовскую) и
вовлекать всю ее в шинельные объятия, так что голова ее оказывалась у него на
плече, и он наслаждался запахом ее темных волос.
С невольным
содроганием и самоукоризной вспоминал он свою неловкость, неразговорчивость,
ежесекундное опасение сделать и сказать что-то не так, спугнуть ее
расположение, ее желание (или терпение) быть с ним рядом.
Он долго не
решался признаться ей, и только по ее сдержанной благосклонности понимал, что
он ей небезразличен, что у нее с ним бывает хорошее настроение. Боже! Как он,
наверное, мучил ее своей неотступностью и сухостью! Однажды осенним вечером,
когда он первый раз провожал Ее до дома, и она согласилась немного постоять на
крыльце, свершилось невероятное. Она вдруг по-детски прижалась к нему, затихла,
и это мгновение странно и страшно стало затягиваться. Куров не дышал и не
шевелился. Неожиданно, словно выпрастываясь из его осторожных рук, она
отстранилась и, быстро глянув в его глаза, припала к его губам. Невесомо, жарко
и решительно. В тот вечер он нес свои губы домой, как что-то отдельное от себя,
на них был вкус и отпечаток Ее губ, всего ее существа.
Она первая и
впервые поцеловала его! Он был на пределе блаженства, и все сомнения его
бесследно развеялись.
... Их крыльца
нигде не было...
Куров пошел в
правую сторону от вокзала по той же самой улице. Здесь она была длиннее, здесь
они ходили в свою уже объединенную, общую 45-ю школу. По дороге к ним
присоединялся их соклассник Виктор Петровский, по прозвищу Вика. Плотный и
покладистый, всегда улыбчивый красавец. Он нравился девочкам, но сам ни с кем
из них «не дружил», как будто старался сохранить или оберечь свою мужскую
независимость и самостоятельность. Таких ребят, между прочим, в классе было
немало. Или они старались не выдавать своих симпатий? Скорее, как и Куров, не
владели языком «международного общения», тактикой подхода и заигрывания, чем
особенно отличался в их классе Мишка Емельянов, упорно и успешно занимавшийся
классической борьбой. Он уже был разрядником, выступал на соревнованиях, лучше
всех бегал на лыжах и тем самым как бы компенсировал свой рост
«метр с кепкой». Он умел уже танцевать не только танго. Девчонкам
льстило его внимание, и Н. тоже. Петровский же, увлекшийся потом штангой и
потянувший за собой Курова, никому и ничему не завидовал, не торопился к
спортивным разрядам, тем более к покорению девичьих сердец. Как будто хорошо
знал, что это со временем придет к нему само. Он умел наслаждаться обыденностью
жизни, учебы, погоды, не ожидая и не требуя от судьбы каких-то особых радостей
и наград. Несмотря на то, что эта обыденность поворачивалась уже к нему
неприятной стороной.
Почти все в
классе знали, что его младшая сестра Маринка, красавица, вовсю «крутит» с
парнями старше себя, дома грубит и дерзит, т.е. явно отбивается от рук. На
Петровском лежала семейная обязанность «курировать» и «спасать» сестру, если
она попадет в неприятные обстоятельства, например, объясняться с участковым.
Родители часто хворавшие, особенно отец, в этом отношении полагались на
Виктора. Маринка искусно пользовалась добродушием брата — любила его за это и
ловко водила за нос. В конце концов, Вика взрывался, особенно когда узнал, что
она уже покуривает. Как он расправлялся с ней и наказывал, никому не сообщал,
но в школу приходил взъерошенный, не в настроении и обычная улыбчивость его
заметно ослабевала. «Вот гадина!
все-таки проговаривался он. — Хоть бы отца пожалела». Все в классе
сочувствовали ему, а быстрый на решения немец Реш неизменно советовал: «Да
отлупи ты ее как следует, говорю тебе». — «Так ведь сестра же, жалко». — «Ну и
дурак, ну и «воспитывай», то ли еще будет!».
Жалко было и
брата и сестру, но к Виктору все испытывали какое- то особое уважение, словно
был он в классе взрослее всех. Куров рассеянно рассматривал «болотные бараки»
Вокзальной улицы. Нет, и здесь все было чужим и старым, незнакомым.
Он, наконец,
решился спросить о Петровских. Ему указали на соседний барак, там жила
какая-то русская семья. На стук в дверь не сразу вышла женщина средних лет,
уже полуседая.
— Слышала о
Петровских, слышала. Да все они поумирали, и Виктор Петрович тоже, уже лет
10—15 назад, от сердца. Одна сестренка его, наркоманка, иногда появляется, да
что от нее толку, ее и милиция уже не берет. Дошла до ручки...
Куров машинально
поблагодарил ее, медленно осознавая, что она сказала. Это был первый удар.
Какая-то щенячья жалость пронзила его: Петровский не дожил даже до 60-ти, такой
крепкий и сильный. Как же так?
Утром в девять
пришла машина, его повезли на прием в акимат, затем в университет для
«аккредитации», оформления его бумаг. С ним персонально беседовал ректор. Куров
отметил его интеллигентность, уверенную профессиональность и отсутствие
подобострастия, к чему в областных вузах он (Куров) давно привык. Показали, как
проходят госэкзамены, что к нему отношения не имело, но он оценил это как знак
открытости и доверия. Затем показали документацию и аудитории, где
планировалось тестирование. «Кажется, хлопот особых не будет, но посмотрим».
Он по опыту знал, что лучше быть всегда начеку, а «война план покажет».
В беседе с
преподавателями литературной кафедры он как-то неожиданно для себя признался,
что давно стремился попасть в Город, в сущности, для него родной, так как здесь
он учился с 6-го по 10-й класс. И не просто попасть, а разыскать своих
одноклассников. Посыпались сочувствия и советы. Куров сказал о Петровском, но
какая- то неясная тревога уже поселилась в нем. Ему предложили дать объявление
в «Бегущую строку» на TV. Алматинский его знакомый взялся это устроить. Куров
вспомнил с десяток фамилий, в том числе и своего троюродного брата, с которым
однажды был в пионерском лагере. Ее фамилию, конечно, девичью, он поставил
первой, и настроение у него слегка поднялось. Обнадеживало и то, что все
объявления из «Бегущей строки» в конце недели публиковала городская ежедневная
газета — дополнительный способ информации.
К вечеру второго
дня у него уже был список домашних телефонов в соответствии с фамилиями,
которые он вспомнил. Его алматинский знакомый извлек эти номера из городского
электронного справочника. Куров просто не знал, как его благодарить за такую
находчивость и оперативность, и, мысленно благословившись (Бисмилля!), — сел на
телефон.
Конечно, он
начал с мужских фамилий, и прежде всего с Мишки Емельянова. У него оказались
однофамильцы, Куров чересчур рассыпался в извинениях и все больше волновался в
предчувствии удачи. Кто-кто, а Мишка должен все про всех знать! С ним Куров
общался дольше других. Так случилось, что, будучи кандидатом в мастера спорта
уже в 10 классе (в глазах девчонок это его, несомненно, возвышало!), он решил
поступать в алматинский Институт физической культуры, и поступил, правда, не в
один год с Куровым, потому что участвовал во многих соревнованиях и даже
подрабатывал уже тренером. Примерно через год-два Михаил разыскал его в
Алма-Ате. Статный, удачливый, уверенный в себе, он сообщил, что учиться будет
заочно, и по дружбе признался, что хотел бы еще поступить и на журналистику в
КазГУ. Куров бурно его поддержал, ибо сам учился там же, на филфаке, куда
входило и отделение журналистики. С журналистикой у Миши что-то не вышло или
бросил, но встречаться они стали регулярно, когда Емельянов приезжал на
сессии. Особой дружбы не было, но встречи эти связывали Курова с Городом. С
Нею, с началом юности. Именно от него Куров знал, что Н. осталась в Городе,
закончила там мединститут, собиралась замуж, Куров не стал спрашивать за кого,
потому что догадывался. Потом встречи стали реже, Емельянов «дотягивал»
институт и по окончании как будто пропал. Последний раз он позвонил Курову,
убедительно просил занять 25 рублей, с отдачей через месяц, но после этого как
в воду канул. В тот раз хорошо посидели, выпили, Куров, между прочим, заметил,
что Михаил выпивал охотно, даже с какой-то жадностью, но не обратил на это
внимание. В брежневские времена кто только не пил, а уже в окололитературной и
около спортивной среде это был своего рода ритуал, «праздник, который всегда с
тобой». В сущности, как теперь оказалось, ритуал не вполне осознанного
маргинализма. Впрочем, было здоровье, были мечты и надежды, пилось легко и
утешительно, даже вдохновенно!..
Ответил
неприветливый, но подозрительно знакомый женский голос:
— Поздновато
позвонили, Емельянов здесь уже давненько не живет! — И все, отбой. Курова
отбрили. Какое-то время он находился в состоянии шока, ничего не понимая. Но
постепенно сами собой стали выстраиваться догадки, от которых становилось не
по себе. Курова вдруг убийственно осенило! Это она, Н., отвечала ему, возможно,
узнала его голос! Возможно, уже в вечерних «Последних известиях» прочитала
«Бегущую строку» и возмутилась: «После тридцати лет взялся разыскивать! С
какой стати?! Кому ты нужен?». Но почему так грубо? Он ей никакого зла не
причинил, а то, что было в их последнюю встречу, — просто «констатация
непреложных фактов», они расстались мирно. И все-таки сейчас Куров понимал, что
какая-то особая, более веская правда была на ее стороне. «Получил? - говорил
себе Куров. - Так тебе и надо». А догадки не кончались. Теперь ему показалось,
что она вышла за муж за Емельянова, не случайно тот обычно неохотно говорил на
эту тему и внезапно, словно навсегда, скрылся. Да-да, Н., нравилось его
внимание, почти ухаживание, но он благородно уходил в тень, потому что ее
роман с Куровым набирал силу и весь класс об этом знал, а в 10-м они с Н. стали
сидеть за одной партой (впрочем, многие уже тогда разбились на пары). Но Мишка
терпеливо ждал. Он, как опытный спортсмен, почти всегда побеждавший на ковре,
победил и здесь. Вот оно что...
Куров курил
больше обычного, порывался еще раз позвонить, но не решился, и горьким,
досадным мыслям его не было конца.
Не слишком ли сложный
тест выбрал он для себя? Или судьба подкинула?
«Методом тыка,
методом тыка», — крутилось у него в голове (так обычно проходило в школах и
вузах новоявленное и неотменимое событие — тестирование). В его списке была
еще одна мужская фамилия с телефоном — татарин Равиль Мустафин.
Ответил знакомый
мужской голос, это был он!
Равиль, дорогой! — кричал Куров. — Это я, Колька Куров, ты меня помнишь?
Это Бог тебя послал мне. Как ты? Что ты?..
«Вот она,
наконец, первая родная душа. Теперь-то уже можно все доподлинно узнать, и есть,
кому поплакаться».
Надо немедленно встретиться! — торопился Куров, словно связь может
оборваться. - Я в командировке, один в гостинице, давай!
Но Равиль
говорил размеренно, внятно и спокойно:
Лучше будет приехать тебе. Я бы с радостью, но мне это сложнее, у меня
ног нету...
Да ты что?!
Также спокойно и
не торопясь Равиль рассказал, что диабет лишил его сначала одной ступни (выше
щиколотки), а потом и второй. Куров содрогнулся при одной только мысли, что,
наверное, кости пилили! Теперь он инвалид и главная его забота - о протезах, а
пока передвигается по дому в коляске. Работал шофером на «скорой», закончил
заочно строительный институт, служил в тресте «Стройпроект» на хорошей
должности да вот раньше времени инвалидом стал. Город он не покидал, только на
время учебы, расширил родительский дом. Живет с женой. Сын женился, внуки, дом
его по соседству...
А помню не всех, — продолжал Равиль. — Я от вас в 9-м классе ушел в
вечернюю школу. Но а Емельянова, конечно, знал, он был на виду, так сказать, —
спортсмен, тренер, да только два года назад умер. Водка его «туда» увела...
Куров не стал
спрашивать про Н., договорились встретиться на днях.
...На следующее
утро он с отсутствующим видом сидел на ЕНТ[I], наблюдал
«экзаменующихся». Вопреки всем запретам, как всегда, они «консультировались»
друг с другом, делая это достаточно артистично или, скорее, профессионально. Не
все, но большинство. Изображалась слегка взволнованная сосредоточенность,
глубокая работа мысли и памяти. «Но почему «изображалась»?» — корил себя Куров.
Волнуются взаправду. Даже родные и близкие, в томлении ожидавшие на улице.
Конечно, стресс немалый, — эта «викторина» (Сколько жен было у Абая, какая из
них самая любимая?..). Метод «тыка», если не хорошая память, только и выручают.
Знания здесь рассматриваются как набор научно установленных фактов, особенно в
гуманитарных науках. Но кому нужны эти установленные знания? В советское время
они подавались как система идеологически санкционированных фактов и закономерностей,
за счет единых госучебников по всем предметам. Теперь почти также, хотя по
каждому предмету десятки разных учебников... Профанация образования...
Куров в свое
время боялся экзаменов, не особенно надеясь даже на порядочную память. Потому
что преподаватель слушал, как и что он излагал, а главное — разговаривал с ним,
иногда помогая, иногда сбивая с толку, но, тем не менее, провоцируя работу
мысли и даже дискуссию. И так с каждым студентом отдельно по 30—40 минут, не
жалея здоровья и времени. Студент и преподаватель знали друг друга основательно.
По-хорошему боялись тех «препов», которые проверяли в тебе даже не знания, а
твои умственные, профессиональные способности... Вот и жалуются теперь «препы»,
что на первых курсах они сталкиваются с «солянкой сборной», с аудиторией,
совершенно не ориентированной профессионально. Но несут свой тяжелый крест,
так как от количества студентов теперь зависит учебная нагрузка и преподавательская
зарплата. Как все упростилось: звенит в кармане — заходи, ты наш! А не звенит,
что ж добивайся гранта методом «тыка».
«Профанация» —
вообще-то это «осквернение святыни», но «проституция» — тоже осквернение,
правда, иной святыни. А, впрочем, почему иной?
... «На ком же
Емельянов был женат? — вдруг усомнился Куров. — Надо было еще раз позвонить,
чем мучиться бессонницей». Под этим впечатлением, усиленным сообщением Равиля,
он совсем забыл о том, что вызвонил еще и своего троюродного брата, что нынче к
вечеру он обещал подъехать к нему в гостиницу...
Неожиданно из
далекого школьного прошлого всплыл курьезный, хотя скорее загадочный эпизод.
Это было осенью предпоследнего учебного года. Он уже сидел с Н. за одной
партой.
После занятий, в
обязательном порядке всех погнали на медосмотр. Врач принимал в кабинете завуча
— сначала девчонок, потом мальчишек. Куров тогда еще не курил и потому остался
в коридоре, на улице было холодно и промозгло. Он слонялся по коридору, как
вдруг открылся кабинет завуча и с задержкой в 2-3 секунды вышла из него врач
сделать какое-то объявление. Это было ошеломительное мгновение: Н. сидела через
порог от него, Курова, глядя прямо на него, будто знала, что он окажется в
этот момент перед открывшейся дверью. Сидела «топлес», как теперь принято
говорить о моделях и «звездах», нисколько не смутилась, не сделала ни малейшей
попытки закрыться или отвернуться. Холодновато белоснежные, уже полные грудки
ее с розовыми сосками глянули на него с невозмутимым тайным превосходством и
достоинством. Он был так растерян, что потом боялся встречи с Н.. Что, если она
станет уличать его в подглядывании? Однако Н. была настроена обычно —
сдержанно приветливо, как будто ничего и не было, или же ему все это
приснилось. Конечно, он ни словом не обмолвился об этом, даже в шутку боялся
намекнуть, и странным показалось вдруг ему (уже тогда!), что она значительно
взрослей его, хотя была примерно на год младше. «Такой» ее портрет явился
вдруг ему впервые. Как много он, оказывается, позабыл и все же может вспомнить!
Какая же она
теперь? Не только внешне, а «вообще»? Он силился представить ее старой, седой
и располневшей, но голос и лицо ее не поддавались этой трансформации
воображения. И все казалось, что она хоть чуточку должна к нему благоволить и
не откажется от встречи, хотя бы от телефонного разговора. Она же никогда так
грубо с ним не обходилась, это было не в ее характере - порывистом, но
скрытном.
И все же было
Курову не по себе.
Брат появился,
как часы, перед заходом солнца и жары, вернул его к действительности. Нужно
было что-нибудь купить к столу. Куров бросился за овощами, колбасой,
консервами, не долго думая, купил бутылку водки (мужской напиток), холодной
минералки и, поспешая в гостиницу, уже издали угадал его. Навстречу ему шел высокий,
крепкого телосложения седой мужчина, с ищущим взглядом. Если бы не этот
взгляд. Куров бы прошел мимо, но он неуверенно затормозил.
А я тебя узнал! — сказал мужчина, брат из детства, тоже Николай, но не
стал уточнять по каким признакам. Узнать, наверно, было мудрено: Куров тоже
был уже полуседой, с длинным морщинистым лицом, и хотя еще только подбирался к
пенсии, уже смирился с тем, что называли его «дедом» — на улице и в
транспорте.
А я, ты знаешь, Коля, догадался. Голос крови! — на самом деле, кроме
взгляда, Курова привлекли сине-лучистые глаза на загорелом лице в
серебряно-белой оправе. Курову помнился красивый черноволосый мальчик,
неутомимый организатор всяческих проделок и забав в загородном пионерском
лагере. Он даже умудрился всех до ужаса перепугать, когда неосторожно
перегнувшись над железными пиками ограды, пропорол себе живот. И еще Куров
помнил его слегка покровительственное отношение к себе, младшему брату.
Но теперь он
обрадовался Николаю не меньше, чем Равилю, так как брат был старожилом города.
Вечер
воспоминаний длился полчаса: вспоминать было, в общем- то, нечего, кроме
покойных родителей, особенно отцов, время от времени навещавших друг друга.
Потому разговор в основном шел о нынешнем пенсионерском житье-бытье. Николай
подрабатывал на заводе, как инженер-конструктор, по контрактам. В Городе по
его проектам делали световую рекламу, фонарные столбы, электрическую расцветку
телевышки и т.д., чем он патриотически гордился. Почти все свободное время он с
большим азартом «ковырялся» на даче, находившейся в 25-ти минутах ходьбы от
вокзала.
Так ты живешь
рядом с вокзалом? - сразу оживился Куров и переключил, наконец, разговор на
«свое». Нет, брат одноклассников его
не знал, фамилии ничего не говорили ему, кроме, пожалуй, одной —
Емельянов. Куров печально посетовал, что его уже нет в живых, но, сопоставив
имена и отчества, они быстро «вычислили», что на заводе Николая главным
конструктором работает сын Михаила — Евгений Михайлович. Куров вздрогнул и
невольно проговорился о том, как грубо ему ответили вчера с емельяновского
телефона.
- А как зовут
его мать? - допытывался Куров. - Она здесь, в Городе?
Брат не знал, но
успокоил тем, что «поговорит» с Евгением, объяснит, что Куров не человек с
улицы, а кандидат филологических наук, собирает материалы о своих соклассниках
для статьи. И стал торопиться домой. Куров не удерживал: Николай был человеком
домашне-обязанным, зазывал на дачу, чтобы по пути показать и свои
«изобретения».
Весь третий день
командировки Куров провел в университете, наблюдал за обработкой материалов
ЕНТ. Познакомился с представителем медицинского университета, который тоже
включили в контроль- но-аппеляционную комиссию, и тут же назвал ему фамилию Н..
Нет, он ее не знал, но пообещал навести справки в архиве. Куров между делом
вспоминал и тревожился о том, что после «бегущей строки» на TV ему в гостиницу
могли звонить, а он отсутствует. Были в университете и представители КН Б,
обходительно бдительные молодые люди. «Вот бы к кому обратиться. Иголку в стогу
найдут», — мелькнуло у Курова, но как совершенно невозможное допущение, и тут
же кануло: с этими органами лучше дела не иметь. В советское время ему (при
закрытых дверях, конечно) предлагали быть осведомителем среди своих сотрудников
или же слегка шпионить, когда Курова, наконец, выпустили в соцзаграницу, в
Польшу. Он едва отвязался от них в первом случае, а во втором, как бы
согласился, но, конечно, только на словах... «Врага» искать легче, чем друга.
Еще труднее при
помощи тестирования найти талантливых людей, хотя, конечно, они тоже
пробиваются порой наравне с «пробивными» и «блатными». Куров втайне сомневался,
что даже КН Б способен оградить процесс тестирования от подлогов, взяток и
шпаргалок. Но это в его компетенцию не входило, он должен был по возможности
оградить того же Абая от вмешательства в его интимную жизнь, а литературу РК
— от провинциальной профанации, как бытовой, так и профессиональной. Жаль, что
отсутствовал академик Бахытжан. В этом отношении он был человеком со своими
взглядами! «Если уж писать азбуку казахской истории — говорил он, — то на фоне
большой истории, не замыкаясь в межродовой борьбе за власть. Как историю Центральной
Азии и Казахстана. Как евразийскую историю, если иметь в виду отношения
Казахстана и России». Эти взгляды Куров разделял, опираясь на этногенез Льва
Гумилева. Да, пассионариев всегда бывает меньше, но это они двигают историю
этноса. Куров хорошо помнил предостережение Гумилева: «Но энергия этноса
постепенно растрачивается, в нем начинают преобладать люди, не стремящиеся
изменить мир, а существующие за счет него».
— А кто мы? —
нередко пытал Куров себя и двух-трех близких друзей и убедительного ответа,
пожалуй, не находил. Тогда всплывали в памяти строки Пастернака — «Мы брать
преград не обещали, мы будем гибнуть откровенно»... Значит, мы существуем за
счет уже созданного? И потому так настойчиво и тщетно ищем друг друга, ищем
оправдания прожитого, ищем себя? И не можем ничего до конца понять?
«Что он Гекубе?
Что ему Гекуба? А он рыдает...».
Вечером он
созвонился с сыном Михаила. Тот очень вежливо говорил и пригласил к себе домой
(работа брата?) посмотреть альбом. Куров купил в супермаркете красивых
аргентинских яблок, ибо алматинского апорта при себе не имел, и угадал —
произвел должное впечатление на супругов, особенно на его моложавую капризную
жену, которая «отшила» его по телефону. Она предложила даже чаю, но Куров
отказался, так как затягивать визит смысла не было.
В семейном
альбоме Евгения нашлось всего две фотографии отца (а сам он так похож был на
него, правда, повыше и покрупнее - но Емельянов!). Показал фотографию своей
матери Галины Владимировны, светлой обаятельной женщины, нисколько даже не
напоминавшей Н. (отлегло от сердца). Сообщил, что семейным архивом
распоряжалась она, но сейчас ее в Городе нет. «Отец долго болел», начал, было,
Евгений, но вдаваться в подробности не стал, а Куров не расспрашивал, потому
что быстро потерял к такому разговору интерес.
«Сын за отца не
отвечает и не хочет, значит, что-то было тут не то...». Правда, он сообщил
Курову два телефона друзей отца — спортсменов...
Они были более
словоохотливы и дорожили памятью о друге. Куров, вернувшись в гостиницу,
допоздна говорил то с одним, то с другим, и каждый советовал обратиться к
третьему и четвертому, потому что М. Емельянова знал едва ли не весь Город, а
уж друзья-тренеры, своя спортивная братия, очень трепетно относились к нему и
жалели. Куров понял: Михаил погиб не от водки, это было только следствие.
Где-то и как-то, может быть, неожиданно переменилась его жизнь и судьба, судьба
человека всегда удачливого и целеустремленного. Факты говорили прежде всего о
том, что после 12 лет брака от него ушла жена, забрав сына и он остался «один».
Несмотря на родственников и друзей, наверно, отчаянно тосковал. И пошла под
откос завидная карьера, уверенность в себе, дружеская порука, наконец,
здоровье... Сломалась воля к жизни... Все очень горевали о нем, каялись, что
мало помогали, не спасли, хотя все также признавались, что было уже поздно
ничего ему бы и не помогло. И сам он это тоже понимал...
Ах, Мишка,
Мишка!
... «Где твоя
улыбка, Полная задора и огня? Самая нелепая ошибка
То, что ты уходишь от меня...».
Была такая
грустно-веселая песенка-фокстрот в их школьные годы. Правда, пел ее мужской
голос, и потому было непонятно, от кого уходит Мишка и почему...
Меж тем, как
понемногу прояснялись судьбы его сверстников, Куров все больше погружался в
состояние тревожного одиночества и фатальной безысходности. Он гнал от себя
мысли о беспощадности времени, о заметном собственном постарении. Оно все чаще
бросалось в глаза и внутренне удручало.
Менялся облик
улиц, городов, моды, интерьеров квартир, транспорта, даже природы. Менялось
все, как правило, в лучшую сторону, в отличие от него. Но происходила еще и
смена поколений, когда отцы зеркально отражались в детях и, кроме этого
внешнего подобия (голоса, глаз, фигуры), ничего общего со своими наследниками
не имели. Отцы не просто старели, а стремительно устаревали в их глазах. А в
жизни держит человека сознание своей востребованности, со-времен- ности. Куров
терял и терял современников.
Он разлюбил
смотреть на себя в зеркало, пожалуй, с тех пор, как на рубеже 50-летия вдруг обнаружил
основательные морщины, наметившиеся от носа к подбородку. Некоторые его
сверстники скрывали их при помощи бороды и усов. Но ничего отращивать не стал,
может быть, по примеру отца, хотя скорее из какой-то брезгливости от волосатого,
заросшего лица. Ничего он скрывать не собирается, тем более цвета волос и
своего отношения к жизни, всегда «полосатой», убедительной в своих жестоких
проявлениях, идущей в одну сторону — твоего заката.
«Черты и резы
времени» — поначалу высокопарно успокаивал он себя, потом уже привычно
констатировал — «Ну и морда!». Он уже забыл, когда во сне летал, но теперь все
чаще стал отставать от поезда. Вспоминалась чья-то ироническая фраза — «Не
доезжает до города», относившаяся к писателям, не дотягивающим до уровня профессионала.
Сон этот стал
постоянным и особенно мучительным, хотя во сне Куров как бы смирился с этой
своей судьбой, потому что, наверно, чувствовал, что проснется. Обычно он
выходил на перрон, его тянуло пройти сквозь вокзал, чтобы посмотреть на
незнакомый город или поселок. Он соизмерял свое удаление от вагона со временем
стоянки поезда, которое обычно объявляют проводники или по радио. Но всегда
почему-то получалось так, что, возвращаясь на перрон, он со страхом обнаруживал
отсутствие своего поезда. Будучи «железнодорожным ребенком», он предполагал,
что поезд «переставили» на другой путь или его «закрыл» прибывший товарный
состав, хотя знал, товарняки «принимают» далеко от перрона. Иногда показывался
только хвост его поезда, который догонять уже было бесполезно, но чаще его
просто уже не было. Куров это замечал по отсутствию зеленого или голубого цвета
своего состава. Причем такое отставание происходило у него налегке — без
документов и денег, в незнакомом месте. Куров опять-таки, как человек
железнодорожно-опытный, знал, что надо заявить дежурному по станции, чтобы его
вещи сняли на ближайшей станции и снова купить билет на другой поезд, идущий
под его номером. Но странное чувство беспомощности, потерянности и даже
униженности (надо же просить, чтобы снизошли, сжалились всякие дежурные!)
охватывало его. Состояние, которое всегда сопровождалось чувством непонятной
вины, своей жизненной нерасторопности, какой-то неспособности идти в ногу со
временем, как все нормальные люди...
Неужели и в этот
раз он отстал из-за своего досужего любопытства? «Не доехал до Города»? До
того Города, который, в сущности, был ему родным и единственным, потому что в
нем начиналась его новая, взрослая жизнь. Потому что в этой жизни появилась
Она. Но теперь он понимал, что уже совершенно бессмысленно казнить себя. Все
это «визьонера дивинации», — иронично подбадривал он себя... Но и во сне она к
нему не приходила.
Судя по всему,
она вообще не торопилась к нему. Никаких звонков после «Бегущей строки»! Скорее
всего уехала из Города, может быть, и насовсем. Но Курову и в этом надо было
убедиться, чтобы потом не раскаиваться в своей пассивности. У него в запасе
было еще три дня, правда, последний - день отъезда - отпадает, так как его
поезд отправляется часа в два дня и хорошо, что его предупредили: это на час
раньше по сравнению с алматинским временем. Значит, с дорожной сумкой в
университет, а оттуда — на вокзал.
Он закурил,
открыл окно. Уже стемнело. Напротив, в пятиэтажной панелке, вероятно,
хрущевских времен, было настежь открыто окно третьего этажа. Оно все эти дни
было как-то непонятно открыто, как будто хозяева покинули квартиру, забыв ее
закрыть, или махнув на все рукой (комары, пыль, воры). Было это окно просто
пустое, без шторы, без цветка на подоконнике. Странное, как будто не жилое,
хотя в соседних с ним окнах Куров иногда замечал мелькание человеческих фигур...
А может, какое-то из этих окон — ее окно, но параллельные линии все никак не
пересекаются?
Почему оно зияло
пустотой?..
Перед отъездом
жизнь ускоряется и как бы запутывается. Все мешается в калейдоскоп
нескончаемых дел и обязательств. Эта паутина цепко держит тебя, препятствуя
взять разгон перед большой дорогой. Хотя мысленно ты уже в пути, который
никогда и не прерывался, только временами замедляясь.
Куров провел
совещание с деканами, присутствовал на разборе конфликтных ситуаций в
апелляционной комиссии, долго уточнял критерии качества нынешнего ЕНТ,
школьного и вузовского и т.д. и т.п., наконец, собрал часть материалов для
Ученого совета, который должен был состояться в день отъезда, и, совершенно
обалдевший от этой суеты, объявил, что уезжает в гостиницу для составления
отчета. Все это делалось уже в знакомой предотъездной лихорадке, когда боишься
чего-нибудь упустить и в то же время понимаешь, что все идет, наверно, как
надо.
Еще необходимо
было встретиться с Николаем, поговорить с Равилем и, наконец-то, что-то
выяснить о главном — где же все-таки Она.
... Так было вто
последнее их лето, после выпускных экзаменов, бала и гуляния по Городу до
утра, после осторожных разговоров об их будущем и нараставшей в нем тревоги
отъезда — невыносимости разлуки. Все ли было сказано, сделано и решено перед
большой дорогой, которую он без нее себе не представлял? И так хотелось каждый
день и час, и каждую минуту быть вместе.
Он предложил ей
вырваться за Город, на речку, позагорать, остаться, наконец, наедине. Она
охотно согласилась, и это почему-то взволновало его как знак особого доверия.
Лицо ее при этом просияло:
Ой, а у меня-то и купальника порядочного нет.
День был в меру
жаркий и ветреный. Они расположились в песчаной прибрежной лунке, над которой
нависал молодой ивняк.
Ой, и тень есть!
— одобрила она и первая начала раздеваться, стоя вполоборота к нему. Она это
делала, как в замедленной съемке. Он еще раз (второй) увидел ее полунагой. Она
была в черном простеньком бикини, хорошо выделявшем женскую скульптурность ее
нежно-белой, словно впервые обнаженной фигуры. Никакого декольте, полные
трусики, свободно облегавшие ее таз. Села, потом чуть выдвинулась на солнце и,
закинув руки за голову, легла на спину. Он хотел и не мог безотрывно на нее
смотреть, не знал, о чем говорить. Бог ты мой, лежа под этим кустом, они не
сказали друг другу и двух слов. Куров украдкой посматривал на нее, и боялся
своим «мужским» взглядом обидеть, даже оскорбить ее. Так хотелось поцеловать,
дотронуться до ее упругой, призывно манившей груди! Он помнит: она позволяла
себя рассматривать, не делая более никаких намекающих или разрешающих жестов. К
этой границе они только приблизились, но не перешли ее. Сейчас бы Куров долго,
подробно и в деталях (!) рассказывал ей о своем тогдашнем состоянии, о ее
невозможном, так просто и близко открывшемся женском очаровании. Теперь-то не
страшно вспоминать и говорить. Но что же делать? Разве можно об этом молчать
всю жизнь? Нет, кажется, он все-таки наклонился и робко поцеловал ее в сухие гу
бы. Она почти не ответила, лежа с закрытыми глазами. Он хотел поправить
бретельку, сползшую с ее плеча, но рука его не осмелилась на эту дерзость. Он
только сглотнул внутреннее напряжение. Пауза затянулась, и она вдруг вспомнила
о каких-то домашних делах и без колебаний стала одеваться. Куров не
препятствовал, зная ее скрытный, но решительный характер.
Кажется, именно
тогда он что-то вспугнул в ней. Попросту испортил настроение! Ни с того, ни с
сего он спросил, пишет ли ей Ушинский. Она постаралась ответить как можно
равнодушнее и конкретнее, словно хотела с этим раз и навсегда покончить, либо
подчеркнуть полную обыденность и незначительность этого факта:
- Мы с ним
просто дружим, познакомились на танцах. Он два года назад уехал в институт, в
Саратов, и попросил изредка мне писать. Вот и все. Что тут такого? Я же тебе
сразу про него сказала.
Да, все так и
было, но тогда, перед отъездом, Курову были крайне необходимы какие-то иные
аргументы. Какие? Что она не любит этого студента? Что прервет с ним переписку,
что клянется в своей верности Курову? «Господи, какие милые и глупые
наивности!». Все было правильно, все шло своим чередом. В эти прощальные дни
они явно переутомились, устали друг от друга, и, конечно, никому из них не приходило
в голову, что, может быть, расставание что-то прояснит в их отношениях.
Прояснило ли? И
это тоже он хотел узнать. Но где теперь Она? Уже и времени в обрез...
Телефонный
звонок застал его на пороге гостиничного номера. «Неужели Она?». В один прыжок
настиг он еще звеневшую трубку. Николай был преисполнен какой-то юношеской
готовности показать ему свою дачу — «25 минут ходьбы». Куров сделал шумный
выдох, согласился. Вечер будет все-таки в его распоряжении.
Поход на дачу
его слегка отвлек. Это был обширный район частного сектора, который еще помнил
свои прежние названия «Оторвановка» и «Москва», Куров был тогда «москвичом».
«Исторические названия», — согласился Николай. — Старый город, кто тут только
не селился, чаще всего репрессированные, разные пролетарии и шпана. Куров вспомнил:
ссыльным был и его учитель музыки Михал-Михалыч, живший вблизи вокзала, в
однокомнатной избе, которую целиком занимал черный концертный «Bechstein».
Звуки его, казалось, вышибут оконные стекла, если не сдерживать их напор левой
педалью. Здесь ММ, одинокий чудаковатый юрист, окончивший консерваторию,
слышавший живого Рахманинова и Скрябина, «показывал» ему сонаты Бетховена,
именно от него он узнал, что музыкальный лейтмотив фильма «Ищу тебя» — это не
что иное, как шопеновский «Фантазия-экспромт» до- диез, минор, сочинение 66.
Все так близко — дача, «Москва», музыка, прошлое, следы, которого уже не
узнаются!
Было пасмурно,
накрапывал дождь, задувал ветер, но после жары было приятно и чуть промокнуть,
и чуть озябнуть, и просто так посидеть за бутылкой на веранде старенькой
Николаевой дачи. Узнать, что и здесь дачи «бомбят» или активно заселяют
оралманы.
Что Николай
лечит аденому любыми средствами, которые рекламируют на TV, плюс всевозможные
витамины, и ничего — не жалуется. Было с ним хорошо, просто, уверенно, без
проблем. Куров даже позавидовал тому, что Николай умеет не усложнять себе
жизнь, несмотря на то, что больна престарелая мать, прихварывает жена, и ему
приходится, в сущности, разрываться между домом, дачей и работой, на которую
его могут вызвать неожиданно, как только появится заказ.
Был День медика,
а родная сестра Николая — Регина, оказывается, всю жизнь проработала
терапевтом, теперь уже на пенсии.
Кстати, надо бы ее поздравить, — сказал заинтересованно Куров.
К ней сегодня не пробьешься — коллеги поздравляют. А вот и телевышка.
Под новый год она «горит», как елка.
Они
возвращались, подходя к остановке автобуса, на котором Куров отправлялся в
гостиницу. И тут он решил рассказать, как тщетно разыскивает Н..
Николай пообещал
поговорить с сестрой. «Что за сестра?» силился вспомнить Куров. Он и понятия о
ней не имел — так давно все это было: детство, школа, переезды из города в
город, первый робкий интерес к девочке... И теперешнее наваждение, которое
никак не отпускает...
И вот на пороге
номера «накрыл» его звонок, Куров кинулся ему навстречу, готовый ко всему, но
только не к этому —
УМЕРЛА!
...Ему даже в голову
не пришло спросить Николая - когда? где? отчего? Этого вообще не могло быть.
Машинально попрощавшись, Куров держал в руках однотонно скулящую трубку, не
зная, куда ее деть, забыв, как остановить настойчивый сигнал отбоя.
Не может быть! — Не может быть! — стучало в мозгу и аукалось,
резонировало: — Вот и все. — Вот и все.
Он курил без
насыщения, и в поле его зрения все время попадало черное окно напротив и не
уходило, непонятно завораживая, словно можно или нужно было там, внутри,
кого-то разглядеть. Пусто стало в мире, одиноко. Он еще более отчетливо и
тягостно ощутил свой возраст и абсолютную уже теперь невозвратимость прошлого.
С ее уходом эта ниточка оборвалась. На ней-то все висело, жило, продолжалось...
«Боже мой!
Зачем? - спрашивал кого-то Куров, холодея душой и постепенно прозревая. -
Опоздал! Как бесповоротно и непоправимо опоздал!».
«Поздновато позвонили, поздновато приехали», - укорял он себя знакомыми
чужими голосами и словами.
Но ведь должны еще остаться в мире ее последние следы ее незримое и
теплое присутствие?.. Она должна подать свой голос, как-то проявить себя!
Мизерно утешало
только то, что ведь остались люди, с которыми свела ее судьба. «Они должны — он
должен — скорее — надо знать — нет времени — почти - он не застал ее - звонить...».
...Очнувшись от
шока, Куров стал лихорадочно соображать. По словам Николая Регина училась в
мединституте на одном факультете, что и Н., едва ли не в одной группе. Значит,
она хорошо знала ее, все подробности у нее. Не медлить! Он отложил визит к Равилю,
сообщив ему эту новость.
Не менее часа
безответно набирал номер Регины, начинал возмущаться ее отсутствием и мучаясь
каким-то болезненным любопытством: Николай сестру ни о чем не расспросил. Надо
же! Впрочем, что ему за дело до Н., спасибо, что все-таки откликнулся на
просьбу Куро- ва: что-то узнал и тут же позвонил.
И, наконец, в
трубке раздался голос Регины. Она провожала гостей, наслаждаясь свежим после
дождя вечером. Куров скороговоркой поздравил ее с Днем медика и хотел, было,
перейти к своему, но Регина вернула его в совершенно забытое детство, когда
еще жили они в Оренбурге и он называл ее «девочка на тоненьких ножках», видимо,
восхищаясь ею. Что-то слабо и беспредметно мелькнуло в памяти. Боже, он совсем
ее не помнил! Она как бы вновь сейчас ожила! И тут же с женской непоследовательностью,
неожиданно для Курова заговорила о главном.
Мы вместе учились и дружили. Н. рассказывала, что у вас была большая
любовь. Она долго помнила о тебе...
А потом, потом?
Она стала работать врачом в профилактории, вышла замуж...
За кого? За Ушинского?
За него.
И что?
А ничего. После института мы с нею расстались, раздружились. Так
получилось. О семейной ее жизни я ничего не знаю. А умерла действительно, два
или три года назад, об этом я узнала совершенно случайно.
Здесь, в Городе? А он здесь? - задал Куров двойной вопрос.
Да, конечно. Ну, извини, мне надо ехать на «дежурство» к маме...
Куров даже не
успел сказать «спасибо», Регина, в самом деле, торопилась, дав понять, что
встречаться им с Куровым не стоит — она уже давно не «девочка на тоненьких
ножках»...
«Найти
Ушинского!». Сейчас ему казалось, что никого роднее и ближе не было и нет у
него в Городе. Да, когда-то время от времени просыпалась ревность: Ушинский,
конечно, был старше, уже студент, это, конечно, льстило Н., среди
сестер-красавиц он выделил и предпочел именно ее. Но Куров никогда его не
видел, он был для него некой мифической фигурой, возникавшей в их Городе,
вероятно, только во время каникул, причем для Н., по ее словам, фигурой
второстепенной. Поэтому сейчас он все Ушинскому «прощал»... Надо было как можно
скорее узнать его телефон.
Куров позвонил
своему алматинскому коллеге, срочно «поднял его на крыло» и теперь напряженно
ждал его звонка, опасаясь промашки или неудачи. Перетащил телефон в гостиную, к
открытому окну, чтобы можно было курить на улицу. Время тянулось томительно...
Как ни странно,
тогда соперником Курова в действительности оказался вовсе не Ушинский, а некий
Юрка. Простоватый, рослый парень с «Оторвановки». Он возник так неожиданно, что
поначалу Куров даже не на шутку струхнул. Сейчас об этом не хотелось вспоминать,
потому что Ее уже не было ни в Городе, ни в мире, и обида Курова уже давно
рассеялась за эти десятилетия, превратилась в занозу, заросшую новым
эпителием, давно отболевшую. Но что с телефоном? Выждав примерно минут сорок,
он сам стал звонить своему коллеге, никогда его не подводившему. Холера!
Оказывается, телефон Курова был отключен на «прием», перетаскивая его к окну,
Куров задел маленький рычажок, и телефон послушно молчал. На том конце
беспрерывно и бесполезно звонили, чтобы сообщить домашний номер Ушинского...
Курова бросило в
пот, когда он, наконец, получил реальную возможность позвонить мифическому,
но, оказывается, вполне реальному «студенту», прожившему с Н. почти всю жизнь.
Вот они и встретились... Один на один... Не так, как с Юркой.
Ответил
негромкий, вежливый голос, который сразу же расположил к себе. «Хороший
знак!». Куров как можно более нейтрально, не заискивая, но, подчеркивая
уважительную официальность разговора, представился и объяснил, что собирает
материал о своих одноклассниках для статьи (первое, что пришло в голову).
Геннадий Иванович, так звали Ушинского, принял это как будто с пониманием. Не
торопясь, но не вдаваясь в подробности (в ответ на горестные сетования Курова),
рассказал, что у Н. была язва желудка, обернувшаяся онкологией. Еще надеясь на
лучшее, он возил ее в Питер, показывал хорошим специалистам, но они
конфиденциально сообщили ему, что она уже приговорена и дни ее сочтены. Действительно,
после возвращения в Город, она за месяц истаяла у них на глазах... случилось
это 31 июля 2002 года... Живет теперь с дочерью и внуком.
Геннадий Иванович, нельзя ли съездить на кладбище, поклониться памяти
Н.? — осторожно предложил Куров.
Все это еще свежо в памяти, мы поедем через месяц, в очередную
годовщину. — Куров почувствовал вежливый, решительный отказ, и еще ничего не
понимая, попросил разрешения встретиться, чтобы посмотреть их семейный альбом,
как выглядела Н. в своей взрослой большой жизни.
Сегодня уже поздновато, и мне нужно отлучиться по делам. А фотографии -
что же? - фотографии есть. Даже Ваша.
Куров вздрогнул.
О, это было так давно! Понимаете, Геннадий Иванович, хочется сравнить
разные судьбы нашего поколения. Я буду Вам очень обязан. Если Вам удобно,
может, завтра утром, после 9-ти?
Ну что же, — без всякого энтузиазма отвечала трубка.
Тогда адрес! - почти взмолился Куров... - О, спасибо! Я завтра перед
выездом вам позвоню.
Ушинский жил в
двух остановках от его гостиницы. Так близко! — печально умилился Куров.
Ночь прошла
практически без сна. Куров лег далеко за полночь, но несколько раз вставал и
курил, представляя завтрашнюю встречу. Теперь все станет ясно или хотя бы
что-то прояснится в судьбе и характере Н., в их отношениях, которые..., быть
может, он придумал и преувеличенно «раздул» за давностью лет. Что за человек
Ушинский? Как провести встречу? Сначала Куров решил, что нужно взять с собой какую-нибудь
бутылку и закуску, чтобы установить обычные мужские отношения, располагающие,
по крайней мере, к откровенности, к доверию. Сначала помянуть Н., немного
вспомнить прошлое, рассказать о себе, о своей второй семье, расспросить об их
жизни, в общем, поговорить, как пенсионер с пенсионером, как это получилось с
братом Николаем. И обязательно попросить на память 2 — 3 фотографии, если,
конечно, имеются дубли. Быть откровенным, но не высказывать своих сегодняшних
мыслей и чувств.
Обдумывал
главные вопросы, их формулировки. Они должны быть без всякого «подтекста».
Может быть, Куров до сих пор неприятен Ушинскому? Может быть, слишком
настойчиво и самоуверенно вмешивается в его жизнь. Лезет в его душу? Нет,
никаких бутылок и закусок, это не дружеские посиделки. Это прежде всего
деловой разговор, трудные отношения двух совершенно незнакомых людей. Общение,
на
которое Ушинский
пошел, быть может, через силу, превозмогая боль невыносимой до сих пор утраты.
Куров уже не сомневался в тяжелых переживаниях Ушинского. Пытался встать на
его сторону, и выходило, в первом приближении, что вот явился из далекого
прошлого незнакомый для Ушинского человек, который по-доброму, бескорыстно
сочувствуя, разделяет его горе. Тем более что судьба связала их, по своей
прихоти, с одной и той же женщиной и теперь сводила воочию, благодаря именно
Ей, несмотря на годы, расстояние и взаимное отчуждение...
Больше всего,
конечно, огорчил Курова отказ поехать на кладбище, показать ее могилу. Многих
уже пришлось похоронить Курову, начиная с родителей. В кругу его друзей и
близких стало традицией приходить на кладбище в чьи-то годовщины и, может
быть, каяться и очищаться перед духом и прахом ушедших от нас навсегда. Не все
это принимали, например, дети самого же Курова. Что же, существует еще
генетическая память, дар самой природы. Человек, умирая, перевоплощается в
своих детей, зачатых в любви, обретая так называемое, бессмертие. Вот она —
милость Бога в нашей преходящей обыденности, свет и вдохновение любви, которые
нас держат в жизни!..
Может быть,
Куров именно потому так стремился к Ней на кладбище, чтобы поклониться не
просто Ее памяти, но и Ее любви. Сейчас он этого не понимал, и вряд ли смог бы
связно это объяснить. Он только чувствовал, что его то и дело куда-то
«заносило», и больше всего чисто подсознательно боялся разрушить хрупкий
контакт с Ушинским.
Теперь уже
наоборот выходило, что Куров явочным порядком бесцеремонно вторгается в личную
жизнь чужого человека, что праздное его любопытство попросту оскорбительно. Но
тут же являлась спасительная мысль. Нет. Все это вздор, иначе бы Ушинский не
стал с ним общаться — давать адрес, соглашаться на встречу.
Когда Куров
отменил визит к Равилю, тот сообщил, что ему приходилось иногда встречаться с
Ушинским по службе: это был образованный, культурный человек, хорошо знавший
свое дело и занимавший должность заместителя управляющего стройтреста. Однако
приятелями, тем более друзьями, они не стали. «Держался от всех на расстоянии.
— Уважал себя». А потом судьба и вовсе развела их, так что о смерти Н. узнал
он от Курова.
«А как же
иначе?» — думал Куров, проникаясь к Ушинскому каким- то суеверным уважением. И
пытался представить, как окажется один на один с умным, холодноватым человеком,
иронично «просвечивающим» своим взглядом, отбивающим охоту общения и путающим
все твои мысли.
Куров понимал,
как опасно зацикливаться на чем-то неизвестном в предчувствии неудачи или
поражения. Усилием воли он отвлекся на составление отчета и, к собственному
удивлению, расправился с ним достаточно быстро и, как ему показалось, успешно.
Но снова возвращался мыслью к завтрашней встрече, полагаясь теперь только на
судьбу. Зря он так себя изводит сомнением и неуверенностью. О, это был его
«тупик», комплекс, которого он уже не стеснялся, потому что избавиться от него
так и не сумел.
Табачная
оскомина на языке, потеря вкуса от крепкого чая и какое- то общелихорадочное
состояние не предвещали ничего хорошего. Куров принимал валокордин, но лежал
без сна, вставал, открывал окна, спасаясь от духоты и не обращая внимания на
комаров, закладывал под язык валидол. Сердце бухало, начиналась аритмия. Перед
отъездом он снял кардиограмму, ему посоветовали избегать стрессов и принимать
предуктал. «Ну, значит, еще немного поживем», — успокаивал он себя перед
командировкой: кардиограмма была сносной. Но кто знал, что командировка откроет
перед ним неизбывный счет потерь?.. Куров пробовал даже молиться и только под
утро часа на два «провалился» в тяжелое забытье, после которого встаешь с
чугунной головой и утраченной ориентацией в мире.
Холодная вода
иссякла уже в восемь часов утра. Оно успел принять душ. Побрился, выпил кофе,
слегка нагладился (жена терпеливо напоминала, чтобы он, как публичный человек,
следил за собой). Собрал портфель, чтобы от Ушинского двинуться на службу
(теперь он почему-то был уверен, что их «свидание» будет кратким), почистил
обувь, сверил по TV часы. Решил посмотреть последние известия и погоду. Звонить
ровно в девять показалось ему дурным тоном. Он выждал еще 15 минут и набрал
номер Ушинского. Ответила женщина, с приятным задушевным голосом. Куров
удостоверился, что не ошибся номером, и попросил Геннадия Ивановича.
А он уехал на дачу, — безмятежно и радостно ответил голос. Куров чуть
не поперхнулся:
Н-но, как же так! Мы с ним договорились созвониться после девяти! Он
ничего вам...
Когда же он вернется? У меня очень важное дело!
Наверно, после обеда, к вечеру.
А вы не дочь его случайно?
Нет, но тоже родственница. Звоните!
Послушайте! — Но родственница положила трубку.
Такого поворота Куров
не ожидал и начал судорожно соображать, чтобы хоть как-то взять себя в руки...
Он не терял надежды до самого отхода поезда. Звонил в разное время суток, за
исключением ночного. Шли, как обычно, долгие гудки, Куров уже не считал их, но
трубку никто не поднимал.
Вот когда он
чуть не взвыл и готов был лезть на стену, жаловаться каждому встречному. Она
уходила от него, и, может быть, не по своей воле, в полное молчание небытия.
«Не время выкликать теней!» — крутилась у него в голове чья-то строчка. Он не
понимал ее смысла и связи с тем, что вдруг произошло. Но уже никто и ничем не
мог ему помочь. Плохо ему было: горько и досадно.
...Автор
опускает все, что касается нараставшей, но безысходной бури возмущения и
отчаяния. Представить его состояние нетрудно, а значит и понять. Автору Куров
доверился в своих излияниях, они были приняты с полным сочувствием, и это
укрепило наши дружеские, не только деловые отношения. Хотя, как стороннее лицо,
не участвовавшее в этой истории, автор, конечно, оставляет за собой право отдельного
мнения и считает, что ставить «вокзальную» точку в этом повествовании, -
конечно, преждевременно. Может быть, такие истории вообще не имеют конца, или
событийный конец не совпадает с их психологическим финалом? Потому что, там,
где кончается литература, всегда продолжается жизнь...
Курова тепло
провожали сослуживцы и особенно его бывший алматинский коллега, помогавший ему
в поисках и обещавший их про-
должить. Это
слегка утешало. Но, покидая, Город, прощаясь с ним уже из окна машины, Куров
осознавал, что в душе его, в его оставшейся жизни произошел какой-то
бедственный надлом. Город показался еще более чужим, точнее, более равнодушным
к нему, чем в первые дни после приезда. Когда-то очень давно это был его Город,
но на его месте вырос другой, враждебный и неизвестный, и эти два города никак
не соединялись в сознании Курова. Катастрофу, которая произошла с ним в конце
этой недели, никому невозможно было объяснить, да и, наверное, не стоило. Из-за
частного ее характера.
НОЧЬ
Куров безучастно
благодарил судьбу хотя бы за то, что ему и в этот раз повезло на приятных и
немногословных попутчиков. Это были две узбечки, сестры: старшая, незаметно
(из-за просторного платья) беременная, и младшая, которая за счет своей полноты
выглядела ей почти ровней. Их сопровождал младший брат, выполнявший роль
«телохранителя», как он сам шутливо отрекомендовался. Они неплохо говорили
по-русски, но общались на своем звучном родном языке, везли старшую сестру в
Тараз — рожать, так как климат Города ей не подходил. Курова тихо тронула эта
забота о новой, еще неизвестной жизни будущего человека и о его матери,
светлое дружное участие этих людей в деле продления рода. Только он чувствовал
себя бесконечно опустошенным, бесплодным, что ли, существом, обреченным на
неотвратимое угасание.
Куров открыл
было припасенную книжку Милана Кундеры, но чтение не пошло, отвлечься не
удавалось. Тоска еще туже захлестнула его, под самое горло. «Спать, я же
совсем не спал. Но разве в поезде уснешь?».
Во всяком случае
с закрытыми глазами стало легче. Стальной грохот и ритмичная перекличка колес
оттесняли впечатления Города, словно Куров становился и сам совокупной частью
этого сложного вагонного механизма, железно-бездушного, но все-таки живого.
«Дорога лечит», — вспоминал он. — Пусть лечит, если может. Но душу можно ль
излечить? Нет-нет, не «излечить», а «рассказать». Кто же это написал? То и дело
приходит на память. А вот «памилия забыл», как у Райкина. И грустно и скучно.
Наоборот, «и скучно и грустно», а точнее и грустно и смешно... когда бы не было
так грустно... устно, пустно, постно... да, конечно: все это было так пусто...
так вернее... а ты не знал? а он знал и знает... это поток сознания... кто
этого не знает?... каждый... это, может быть, что я усну... каждый засыпает, и
он тоже... когда-нибудь уснет... но он не знает... «Вы» не знаете... и от этого
совсем не пусто, а грустно... прустно — прусто... но зачем играть в слова и
обещания?
Вы слышите меня,
Геннадий Иванович? Наконец-то, Вы взяли трубку, только не хотите почему-то
говорить! Но не бросайте, долго я не задержу... Чего там, я скажу Вам правду.
Мне же некому... а Вы должны ее знать, потому что от Вас зависит сейчас все...
все... все мы с Ней...
... Послушайте!
... Жаль, что
она не дожила до сегодняшнего дня, я бы еще раз объяснился ей в любви,
несмотря на эти 30 лет разлуки и разрыв...
Первая любовь
начинается рано, но главное, чтобы это чувство осталось на всю жизнь. Это
чувство благодарности: оно было высокое и чистое, незаменимое!
Так что не
влюбляйтесь рано - это еще и мука на всю жизнь, сознание какой-то
неисчерпаемой вины.
Вины — вины, и
Вы и мы!
Зачем Вы,
Геннадий Иванович, обрекаете меня на муку: не разрешить поклониться Н. —
последним поклоном?
Теперь нам с
Вами нечего и некого делить!
Да, я кричу и
плачу, а Вы разве нет?».
Куров чувствовал
его присутствие, хотел разглядеть его, понять, лицо всегда так много говорит.
Но Ушинский не появлялся. Он присутствовал виртуально, изматывая Курова своим
молчанием и бесплотностью. Он не желал, видимо, «соткаться из воздуха». Но ему
удавалось быть здесь, в гостинице и одновременно на том конце провода. Бесплотность
его, оказывается, была на руку Курову, он думал и говорил, не опасаясь попасть
впросак, показаться наивным, смешным или глупым. Потому говорилось свободно, в
порыве самой последней, облегчающей искренности. При всем при этом Куров
догадывался, чувствовал, что Ушинский не желает с ним говорить. Курову сильнее
всего хотелось разорвать или раздвинуть круг этого заколдованного молчания,
узнать некую истину, которую Куров почувствовал, но никак не может выразить,
облечь в слова. Его утешала недавно запавшая в память чья-то странная,
парадоксальная мысль — «... в истине можно найти только то, что сам в нее
вложишь. Но это не так уж мало — в истине есть место для всего».
«... что сам в
нее вложишь...».
Временами
наступала светлая, ясная тишина. Заколдованный круг молчания можно было
потрогать рукой. Он был невесом, прозрачен, но ощутим. Оказывается он был
осенним прохладным, несмотря на теплое солнце, кладбищенским воздухом. И Куров
даже облегченно вздохнул, потому что теперь все становилось понятным.
Беспредельная, мирная и тихая вечность всегда царила на кладбище. Здесь можно
было вести только безответный разговор с теми, кого уже с нами нет. И не был он
тягостным, этот круг молчания, скорее прозрачная непостижимая стена молчания.
Как Стена Плача...
«Вот, Геннадий
Иванович, Вы не пожелали ехать на кладбище, так я сам это сделал. Сам нашел, по
наитию, без подсказок и помощников! Странное в Вашем Городе кладбище: в редких
случаях встречаются каменные надгробия с оградами, в основном - голубые из
жести «флаж- ки»-времянки, с портретам и-медальонам и. Но я все-таки нашел среди
них Ее могилу! Как же так, уже три года прошло, а памятник все еще временный,
как у всех? И выделяется только потому, что на нем в овальном выпуклом
медальоне, чуть подкрашенное, но такое узнаваемое — Ее лицо — юное,
загадочное, с чуть неправильным прикусом...
Вот пришли бы
сюда с Вами вдвоем, тихо, по-христиански помянули, и дух бы ее успокоился. Что
же Вы трубку не бросаете, как будто во всем со мной соглашаетесь, а не идете? Я
же Вам не враг...».
Шум Города стал
постепенно нарастать. Это отходил его поезд, который сделает остановку у
кладбища и заберет Курова. Так плавно нарастает скорость, и колеса уже
начинают стучать в ритме его сердца, с редкими перебивами. Только бы не забыть
расположение Ее могилы. Ее портрет теперь тоже входил в круг молчания,
становился его центром. Куров с трудом, как зачарованный, старался отвести
взгляд от Ее лица, чтобы запомнить какие-то ориентиры на будущее. Но вокруг были
среди вездесущей сирени только подобия Ее жестяного памятника, и надо уже было
идти к приближающемуся поезду. Шопеновская мелодия мобильника («Фантазия-экспромт»)
возникла вдруг в его нагрудном кармане. Пока он расстегивал карман, оттуда
раздался голос академика Бахытжана: «А, все-таки нашел себе старушку? Но вот с
памятником, айналайын, ты, конечно, подкачал! Деньги заработал, мог бы и
приличнее поставить...». Куров не знал, как оправдаться. Он теперь ведь не
успеет, ему надо ехать. Он не хочет отставать от поезда, надо торопиться, а
памятник — конечно... надо. Чувство страха и вины росло, и как он не старался
ускорить шаг, ноги тяжелели все больше, однако он все шел и шел, как в гору,
на промежуточный вокзал, суеверно бормоча или, как будто заклиная Н.: «Не
обижайся, Господи, пожалуйста, не обижайся! У тебя будет памятник особый,
который заслуживаешь только ты... Вот увидишь!». Ее лицо в оправе медальона
сопровождало его, не удаляясь и не приближаясь, как будто бы следя за ним из
своего овального окошка, порываясь что-то сказать...
Нет, в этот раз
он не опоздал. Он действительно ехал в поезде. Даже просыпаться было не
обязательно, чтобы в этом убедиться. Но Куров открыл на мгновение глаза, чтобы
реальность не опровергла сон, который так хотелось досмотреть. Полоска тусклого
коридорного света обозначала приоткрытую дверь купе: да он ехал, да, в
обратную сторону...
Но без Нее.
«А ведь она была
так близко! — вспомнил Куров. — Только что. Пусть на медальоне, но лицо такое
молодое и живое!». Он силился представить Н. уже за порогом школы, в ее уже
взрослой жизни, и не мог. Тогда он стал припоминать далекие туманные
подробности их разрыва. Долгое время они были для Курова настолько живы и
значимы, что, рассказывая о них своему другу-наперснику, Куров всегда усиливал
иронию, чтобы все это не выглядело мелодрамой. И чем больше припоминал, тем
больше хотелось встать и закурить, постоять в туалетном тамбуре у открытой
узкой форточки, глядя в ночь.
Он так и сделал.
Сон отлетел. Вагон грохотал и казался безлюдным.
Теперь он
понимал, что ирония являлась бесплодной потому, что в своем рассказе он хотел
сгладить неприятную, тяжелую память о том событии.
Жалел ли он об
этом? Долгое время — нет, стараясь все это попросту забыть. Навсегда.
Вычеркнуть Ее из своей жизни. Это было время надежд и упований, но прежде
всего обольщений и разочарований.
Сейчас память
подсказывала и другое. В марте 1953 года на общешкольной линейке они оплакали
за счет преподавателей обожествленного вождя и услышали неестественно долгие
тоскливые гудки, сразу всех имеющихся на станции паровозов. Приняли этот
панихидный обряд как нечто свыше должное, но и с затаенным удовлетворением -
(открыто радоваться было нельзя) - уроки в этот день отменили. Особенно
воодушевленным был в те дни его музыкальный учитель — Михал Михалыч. Он в своей
тесной для рояля избушке «показал» ему 1-ю часть бетховенской «Аппассионаты» и
ре-бемоль мажорный «кавалерийский» полонез Шопена. Они прозвучали тогда
торжественно и празднично. Старинные портреты (чуть ли не XVIII века) сверкали
на стенах глазами, кружевами и орденами. «История все-таки продолжается, —
возбужденно говорил учитель, набивая табаком папиросную гильзу. — Если хотите,
она, может быть, начинается заново!». Куров втайне гордился, что к нему
обращаются на «Вы», что несколько иносказательно посвящают во взрослые дела и,
может быть, тайны.
Что он знал об
этих «делах»? Да ничего, кроме того, что, например, сразу после войны на
стройках в наших городах работали военноплен
ные немцы и наши
«зеки», но последних охраняли очень строго, даже с собаками, и перевозили в
глухих железных фургонах с решетчатыми мини-отдушинами. Они были, наверно,
опаснее бывших фашистов. Были какими-то нелюдимыми, как будто явились с того
света, не зная нашего языка и обычаев. Таким, например, был их сосед по
коммуналке Андрей Петрович Голицын, вскоре вернувшийся «оттуда», - подавленный
и бессловесный, разучившийся улыбаться, казалось, навсегда.
Когда Куров
робко заикнулся о своем желании и дальше учиться музыке, а также стать
журналистом, Михал Михалыч горячо поддержал его: «Как же, как же! Непременно.
Теперь все, молодой человек, в ваших руках!». И Куров рискнул поступать в
университет (правда, не в МГУ).
Это была его
первая в жизни серьезная победа. Он поступил на филологический факультет
самостоятельно, без всяких «ходатаев», всего лишь под крестным знамением своей
тетки-медсестры. Ездил на лекции на Четвертом трамвайчике, который ходил тогда
от Парка Горького по Комсомольской, мимо строившегося колонного здания правительства.
Радостная уверенность в жизни распирала его. Ловко сидела на нем еще новенькая
«комсоставовская» отцовская шинель с двумя рядами пуговиц и длинным разрезом
сзади, на голове модная кепка «лондонка», в руках — балетка, маленький
чемоданчик для тетрадей. Свершилось первое, что они планировали с Н. — он
поступил и теперь слал ей бодрые, призывные письма, вдохновляя и ее стать студенткой
алматинского мединститута.
Почта работала
тогда на зависть быстро. Дважды в неделю писал он Ей и получал ответы. Самая
малая задержка вызывала тревогу и такую порчу настроения, что ее замечали как
его двоюродные братья, так и сокурсники. Среди них было немало симпатичных и
даже красивых девушек, которые не просто поглядывали на него, но и терпеливо
стремились сдружиться с ним поближе, завлекали в свои компании. Куров был к
ним абсолютно равнодушным, он не замечал их тайных нежных усилий. Нет, он не
позволял себе никой надменности, это было вообще не в его характере, общался,
шутил, учился и развлекался с ними на правах своего, но все-таки
«заговоренного», странно недоступного парня. Он был счастлив.
Об Н. он никому
не рассказывал, свято оберегая от досужего внимания их отношения. Знали об
этом только его братья, бывавшие в Городе и насмешливо отмечавшие всегда
неиссякаемый, регулярный поток писем из Города, с красивым, явно девичьим
почерком. Она указывала на конверте только свои инициалы, письма были без
обратного адреса. Но для Курова адрес ее сиял в памяти, как самый лучший
праздник, как единственный в мире дом с палисадником и крыльцом, на котором они
встречались. Она, по его настоянию, часто присылала свои фотографии, он тайно
разглядывал их утром и перед сном, а письма тщательно прятал от ехидных
братьев. Он еще не замечал, как она быстро взрослела, хотя в глаза уже
бросались и новая женская прическа, и уже не школьные фасоны платьев, и слегка
задумчиво грустное ее лицо, с этим неповторимым прикусом, и взгляд ее глубоких
темных глаз, обращенный куда-то вдаль, не в объектив аппарата. Он бы сейчас
готов был издать ее красивые, незамысловатые и меланхоличные письма о том, о
сем, с неявной, но ощутимой нежностью. Он их долго помнил наизусть...
Однажды, когда в
ее письме мелькнула фамилия Ушинского, он пережил приступ нешуточной ревности.
Хотя Н. сообщала всего лишь о том, что «студент» прислал обычное письмо. Она
таким образом подчеркивала свою открытость и прямодушие, свою привязанность к
нему, студенту алматинскому, а он все понял наоборот — как намек на возможный
разрыв. Вот тогда, в качестве разуверения и, может быть, собственного
оправдания, она написала ему на обороте своего очередного фото: «Самое главное
— быть верным. Верным не тогда, когда легко быть верным, а когда трудно». Курова
подчеркнутое ею слово при первом чтении благостно умиротворило, но, обдумывая
всю эту мысль, может быть, цитату, он для себя выделил последнее слово —
«трудно». И вот тогда с каким-то содроганием понял, что нужно скорее ехать в
Город, посмотреть ей в глаза, обнять, прижать к себе и уже никогда больше не
отпускать, ведь они не виделись уже почти полгода. Целая вечность! Ему-то здесь
проще — лекции, библиотека, новые друзья, а Н. там одна, без учебы и без
работы, поступить не удалось, соклассники почти все разъехались, она вела
«домашнюю жизнь».
Куров досрочно,
как отличник, сдал свою первую зимнюю сессию и заблаговременно купил билет на
скорый поезд № 7 Алма-Ата - Москва. Вот когда он особенно понял, как
истосковался, и даже не столько по родителям, сколько по этому странному,
невыносимо милому и дорогому для него человеку. Телеграмма о выезде была дана,
подарки куплены, вещи собраны, многократно передуманы варианты встречи и
первого разговора с Ней. Куров находился в невыразимо волнующем предвкушении
заслуженного праздника, которое по мере приближения к Городу только
нарастало...
Родители
встретили его как взрослого. Мама накрыла в зале стол, во главе которого стояла
темно-гранатовая бутылка «Кагора», красовались закуски, три прибора с
салфетками, а на кухне ждали своего часа многочисленные ряды вкуснейших маминых
пельменей. Отец был на дежурстве. Но к вечеру пришел, и стол все также был
торжественно богат и соблазнителен. Мама не могла насмотреться на сына и все
подкладывала лакомые вещи, которыми иногда его баловала — например, янтарные
кусочки гурьевского балыка. А ему не терпелось, не обижая родителей, поскорее
выскочить из дома.
Его насторожило
прежде всего то, что Н. без особой охоты согласилась выйти на крыльцо.
Действительно был мороз под 20, когда уже начинало пощипывать уши, но ведь не в
комнате же, где родители и сестры, обниматься? Она надела большую отцовскую
телогрейку, запахнулась и вышла с непокрытой головой, как будто ненадолго. Куров
не успел сказать и двух слов и только раз прикоснулся к безвольным безответным
губам, как услышал чьи-то шаги. Было уже темно, девятый час вечера.
Мгновенный
холодок опасности неприятно скользнул по его спине, однако Куров продолжал
обнимать Ее, жадно привлекая к себе. Он старался не оборачиваться. Шаги
остановились, сбоку крыльца стоял человек, который, не здороваясь, по-свойски
спросил:
Это он?
Н. почти без
паузы ответила утвердительно.
Ну что, студент, пойдем «поговорим»? — предложил незнакомец.
Куров отпустил
Ее и медленно стал спускаться с крыльца, понимая, что предстоит драка. Перед
ним стоял высокий парень, «без головы»,
по моде того
времени, с поднятым высоким воротником «москвички», теплой куртки. Куров не
хотел подходить вплоть, но тот упредил его, кинувшись вперед и уцепившись за
отвороты его шинели, стремясь повалить или сбить с ног. Куров не дался. Не
имея почти никакого опыта кулачных потасовок, Куров захватил его руки, как это
делал на ковре Мишка Емельянов, стремясь повалить соперника, но не устоял, и
они оба покатились в снег...
Я тебе! Я тебе, сука! — устрашающе хрипел его противник, стараясь
больше запугать, чем сделать больно. Куров понял, что физически не уступает ему
и, как ни странно, не испытывает к нему особой злости или ненависти.
Оказавшись сверху и почти положив его на лопатки, Куров неожиданно для себя
предложил: «Слушай, давай разберемся, что к чему! Чего в снегу валяться?».
Я те покажу! Я те... — уже не так грозно ворчал незнакомец. Это продолжалось,
пожалуй, не больше пяти минут, их «классическая борьба». Они встали, тщательно
отряхиваясь и возбужденно дыша. И первое, что заметил боковым зрением Куров, —
это пустое крыльцо. Не сказав ни слова, Н. незаметно покинула их, ушла в дом.
А поклонники ее
неожиданно разоткровенничались, все выяснили и мирно, чуть не обнявшись, не
торопясь, пошли на свою «Москву». Странно, даже смешно было доказывать Юрке,
что Куров познакомился с Н. не год назад, как он, а много раньше. Юрка хоть и
был драчуном и слегка нагловатым парнем, все-таки внял голосу справедливости.
Несмотря на его чувства к этой «классной чувихе», так сказать, прав на нее у
него было все-таки меньше. И тогда им ничего не оставалось, как только грустно
констатировать факт «измены», или, проще говоря, типичного вождения «за нос»,
на что «бабы всегда горазды». Они оба остались в дураках, только Куров,
выходило, раньше, чем Юрка. Это было особенно оскорбительно с мужской точки зрения.
Так что Юрка в порядке солидарности даже проникся к Курову симпатией, чем еще
больше расположил его к себе. Это была их первая и последняя встреча.
А Курова так
захлестнула горечь и обида, что он не стал ничего с Ней выяснять и постарался
уехать из Города раньше срока. Не слишком ли поторопился?.. Сейчас это уже не
праздный вопрос. Он докуривал уже третью сигарету, уже сверх всякой нормы,
опять впадая, как в прошлую ночь, в какую-то прострацию — состояние
полусна-полуяви. Осторожно вошел в купе, улегся на свою нижнюю полку, с
валидолом под языком, стараясь ни о чем не думать и ничего не вспоминать.
Давно все это
было. Так давно! Куда девалась та его шинель, которой сносу не было, и
куртка-телогрейка, в которую она запахивалась, согреваясь на случай
одиночества?
Где Она сама, та
Прекрасная Дама, не отдавшая предпочтения ни одному из претендентов, рыцарей
шинели и «москвички»?..
Прекрасная
дама... прекрасная драма... Предама?.. Преддама.
Вернувшись в
Алма-Ату, Куров еще целый месяц получал от нее письма, но совсем не покаянные,
она печально корила его за поспешность. Он читал их жадно, отчего еще больше
разгоралась обида, и все никак не мог насладиться чувством возмездия, сознанием
ее униженности. И только где-то в самом дальнем уголке души поскуливало: как
же теперь без Нее? Казалось, все рухнуло в его жизни, все потеряло смысл — и
поступление, и учеба, и новые друзья. После первой победы он переживал самое
первое поражение, если хотите, катастрофу в сво-
ей жизни. Но
молчал и никому не жаловался. А кому? Братья, заподозрив что-то неладное,
особенно все более заметное отсутствие писем, пытались вытаскивать его на
каток, на танцы. Но Куров сопротивлялся, ссылаясь на занятость в университете,
подолгу сидел за учебниками дома и новыми книгами в библиотеках.
На первых порах
он все еще думал ответить Н. — «единственным последним письмом», но не находил
никаких слов, кроме одного исступленного вопроса «Как ты могла?!». Вот что
особенно не укладывалось в его сознании, не подлежало никакому оправданию и
ответу. Юрка с гордостью хвалился — «Как мы целовались!». Замыкаясь все
больше, Куров добровольно загонял себя в тупик, пока, собравшись, наконец, с
последними силами, не уничтожил все ее письма, как свидетельство лицемерия,
обмана и долгой двойной игры. Порвать ее фотографии рука все-таки не
поднялась...
Прошел месяц —
два - три без писем, он прислушивался к себе и начинал чувствовать слабенькое
облегчение: Город и Н. отступали в прошлое. Все складывалось так, что дорога
ему туда уже не лежала, потому что родители его решили перебраться к сыну в
Алма-Ату, так как отцу в МПС пообещали неплохую должность. Куров на «отлично»
заканчивал и вторую сессию и уже с каким-то подъемом готовился к поездке на
сельхозработы. Как-то незаметно, но очень властно внимание его привлекала
красивая и очень своенравная студентка старшего курса. Куров набрался смелости
на каком-то вечере пригласить ее на танец и таким образом познакомился. Стал за
ней робко ухаживать, правда, без заметного успеха. Когда же выяснилось, что на
целину его и ее курсы поедут в одном эшелоне и, как неожиданно оказалось, даже
в одном вагоне, к нему вернулось, наконец, ощущение полноты жизни.
... И тогда
прекрасная Дама, Преддама, растворилась в забытом и пережитом, казалось,
навсегда исчезла из его памяти, а значит и души. Это сейчас в поезде -
«минувшее проходит предо мною».
Вагон качался,
подпрыгивал, гремел, колесные скаты то скользили по бесшовным рельсам, то
«татакали» на стыках. Куров незаметно для себя стал засыпать, удивляясь такой
способности своего организма, сверхчуткого, особенно ночью к малейшим
нарушениям тишины. Ему казалось, что в кратких мгновениях памяти вспыхивали и
проносились целые куски его жизни. «И удуши есть скелет, — подсказывало
сумеречное сознание чью-то мысль, — и этот скелет — воспоминания». Его заносило
в патетику, и тут же услужливо являлись бесшабашные хореи Гумилева:
Вот иду я по
могилам, где лежат мои друзья,
О любви спросить
у мертвых неужели мне нельзя?
Целая философия
любви и памяти. Отец-поэт предсказал сына-историка, наполнившего кровавое наше
прошлое единственным поступательным смыслом — любовью к жизни. Вот она, искра
пассионарности. Переступи через себя и преступи рутину жизни! Слабо тебе, а -
Куров? Признайся! Ладно, поздно... Тогда «выздоровление» свершилось, словно в
сказке — ровно за пол года, а теперь такое невозможно. Это ты, конечно, понял,
только все не сознаешься... И в памяти его мелькнул еще один эпизод, который
сильно потускнел за давностью лет. Которому он по инерции выздоровления
значения вообще не придавал.
Министерство путей
сообщения
А было это так
внезапно, вне какой-то здравой логики и смысла, по истечении, пожалуй, целых
10-ти лет со дня разрыва... как же он забыл об этом? Нет, не забыл. Скорее
неприятно было вспоминать, как будто он был в чем-то виноват и все никак не
мог избавиться от этого тяжелого и смутного чувства.
За это время
жизнь его основательно переменилась и вошла в новое, семейное русло. Он
закончил аспирантуру, успешно защитил кандидатскую, и рано (в 25 лет!) женился
на своенравной «мадам», как он любовно назвал ее, приглашая на самый первый
танец. У них родился сын, родители с двух сторон сложились и купили им
кооперативную двухкомнатную квартиру в новенькой панелке, с которой начинались
безбрежные западные микрорайоны Алма-Аты.
Двухкомнатная
уютная квартирка с телефоном и балконом, на втором этаже, в пешей досягаемости
близких друзей, счастливо возникших в их 5-м микрорайоне, наполненная певучим
голосом во всех отношениях незаурядной его «мадам», трогательным лепетом и
первыми самостоятельными шажками сына, — умиротворяли Курова. Он чувствовал
себя иногда человеком, который, наконец, на своем корабле отправился в свое
плавание, в ту самую жизнь, которой, казалось, не будет конца, как и той
необходимой радости бытия, которая укрепляет уверенность в деле и планах.
Вдобавок ко всему этому, после трехлетнего преподавания в КазГУ, ему предложили
место замначальника отдела в Минвузе (Министерство высшего образования). И в
скором времени он стал почти начальником, сменив пенсионера.
«Чего же боле?»
«Да, «жизнь без
начала и конца», но действительно «всех нас подстерегает случай»...
В один из
замечательных безоблачных осенних дней, ближе к вечеру раздался телефонный
звонок.
Здравствуй, Куров! — сказал подозрительно знакомый, но забытый женский
голос. — Это Н.. Ты еще помнишь меня?
Первой реакцией
Курова, в чем он долго сам себе не признавался (или не хотел), — был страх!
Его «мадам» ничего не должна об этом знать. Куров суеверно боялся супружеских
измен, т.е. боялся первым встать на эту тропу. Он, воспитанный мамой почти в
безусловном наивном повиновении и честности, не умел притворяться и лгать. В
отношениях с «мадам» у него никогда «этого» не было, и он жил в блаженном
равновесии с самим собой и семьей.
Я недалеко от
твоего дома, на углу, где телефонная будка. Если хочешь, выходи...
Д'а, д'а, ко-нечно, — заикаясь и задыхаясь, принужденно равнодушным
голосом отвечал Куров, потому что жена слышала его и сейчас он должен был
выйти, собственно, на свидание (!), но так, чтобы она не догадалась. Это ему в
общем удалось. Краснея, он придумал на ходу, что Мишка Королев, сосед из
первого подъезда хочет о чем-то с ним поговорить, но на улице. «Мадам» не
любила случайных собутыльников Курова (особенно их появления в доме) и
недовольно «приказала» — «чтоб не долго».
Бедный Куров!
Что он пережил за этот короткий путь к телефонной будке! Вот она - очная
ставка, которой он тогда постарался избежать и думал, что навсегда. Он сам не
знал, чего сейчас он более всего боялся: Ее? себя? жену? Но шел и, повернув за
угол дома, мгновенно выхватил среди прохожих и узнал Ее! Это был удар тока,
встряхнувший все его существо, бросивший в испарину и сухостью перехвативший
глотку...
Она как будто бы
не изменилась и расцвела новой женской зрелостью. Бежевый плащик и темно-бордовое
платье под ним (ее любимый цвет, и его тоже!), кожаная сумка через плечо и
гордая корона головы: прическа, глаза и этот прикус в оправе слабой,
настороженно-приветливой улыбки. Откуда и зачем она явилась — такая невыносимо
знакомая, нежно-саднящая и уже такая чужая?!
— Ну,
здравствуй! — сказали они почти одновременно, и пошли куда-то наобум, подальше
от людей.
Она, как
практикующий врач-терапевт, приехала на повышение квалификации, на месяц. Мишка
Емельянов сообщил ей новый адрес и телефон Курова, и вот, когда до отъезда
осталась уже неделя, она решила все-таки ему позвонить.
Думала, если честно, прогонишь. Но вот, слава Богу... Спасибо!
Ну что — ты!
Как живешь? — спросила она. Разговор явно не клеился, и она взяла инициативу
на себя, стараясь придать ему тот давний «свойский» характер, когда понимают
друг друга с полуслова и болтают обо всем, со всеми мелочами.
Куров в двух
словах рассказал, не выдавая своего довольства жизнью, словно опасаясь его
утратить.
А ты? Что у тебя?
Н. была еще
более лаконична, как будто рассказывать ей про себя было неинтересно или не
хотелось. Выходило, что, помимо института, работы в поликлинике и нынешнего
приезда в Алма-Ату, ничего другого, стоящего внимания, в ее жизни не
случилось. Это вдруг озадачило и поставило Курова в тупик — говорить было,
действительно, не о чем. После тягостной и неестественной паузы, он
спохватился:
Давай зайдем ко мне, познакомлю с женой, сыном. Что же мы вот так — на
улице?
У вас сын? Большой?
Уже по стенке ходит, начинает говорить.
О! - С поощрительным вниманием откликнулась она, не замечая
приглашения.
Ну, так пойдем же!
Нет, не надо. - И Куров по знакомой ее интонации почувствовал, что
уговаривать Н. бесполезно, что вызвала она его не для того, чтобы побывать в
его семье и убедиться в ее благополучии. Она приехала к нему. От этой догадки
Курова бросило в жар, он растерялся, потому что ничего сейчас к ней не
испытывал, лишь делал вид, что рад, взволнован и т.д. И было это шито белыми
нитками. Он сам себе напоминал ученика, забывшего урок и несущего околесицу,
чтобы только не молчать. Он перевел разговор на их одноклассников. Что же, с
охотной теплотой они повспоминали о своих школьных друзьях. Тогда еще более
ясно стало, что они (он?), уходят от главной темы — что же между ними, Н. и
Куровым, произошло и что осталось от прошлого.
Украдкой глянув
на часы, Куров понял, что ему давно пора быть дома, что уже назревает домашний
скандал, на который «мадам» была весьма горазда. Они шли, шаркая листьями, невольно
любуясь затаившей дыхание осенью. Чуть ли не слезы наворачивались на глаза от
этого бескорыстного, сострадательного очарования. Солнце заходило медленно, и
потому, казалось, навсегда. Куров попытался еще раз ее уговорить:
Так, может, все-таки зайдем?
— Нет, Ника, нам
пора — тебе и мне!
Она звала его по
имени в особые мгновения и в сокровенных местах своих писем. Он вздрогнул,
сердце на секунду защемило. Дыхание, как будто, прервалось от школьного этого
пароля нежности — «Ника». Так звала его только она, но он теперь носил другие
имена - Коля, Николай, а в вузе уже Николай Васильевич и, кажется, давно
смирился с этим.
Она ускорила
шаг, как бы оставляя его или призывая поторопиться. До остановки автобуса шли
молча, привыкая уже не только к осенней тишине. Когда ждали автобуса, Куров,
бросив сигарету, робко взял своей рукой ее прохладную суховатую ладошку,
пытаясь пожать ее. А вдруг в последний раз? — мелькнуло у него. Но она,
выпрастывая руку, сказала неожиданно приветливо и деловито:
— Знаешь, я остановилась
в общежитии, в одной комнате с подругой. Она свой человек. Давай встретимся
завтра у Оперного, там рядом. В шесть вечера тебя устроит?.. Вот и чудно.
Ее любимое, со
школьных лет, присловье — «Вот и чудно». А что чудно? с кем? почему? — думал Куров,
приходя постепенно в себя. Она застала его врасплох. За этот час он выкурил
почти полпачки и не чувствовал насыщения, хотя осенью, под вечер ему курилось
особенно охотно. «Вот так пироги! Ну, хоть бы предупредила. И этот Емельянов
— мог бы позвонить, сообщить... Что же делать?». Чего никак не ожидал он, так
этого внезапного визита и более того — приглашения на свидание!.. В свое время
студентки КазГУ строили Курову глазки, одна даже настояла на «разговоре»,
провожая его после лекций до автобуса, но все это он всерьез не принимал и
привычно отделывался отеческими внушениями, что все, мол, это со временем
пройдет. «Зачем себя компрометировать, тем более уже немолодому человеку,
доценту престижного вуза?» — оправдывался он перед собой, действительно считая
себя немолодым, хотя еще только подбирался к 30- ти. Но последняя,
«настойчивая» студентка, некоторое время спустя, улучив момент, оглушила его
неожиданным обидным «признанием». «А вы знаете, Николай Васильевич, вы очень
похожи на Клима Самгина. У вас такие же холодные глаза...».
Но Н. ведь ни
словом, ни взглядом не обидела его, хотя вела себя немного настороженно, даже,
может быть, натянуто, как будто должна была, но не посмела о чем-то попросить
его. А он — он, даже не обнял ее и не поцеловал! Ему вновь стало жарко, и
никакие оправдания уже не шли на ум. Пожалуй, кроме одного: «Ну, хорошо, еще не
поздно. Может, завтра. Но только что от этого изменится? Бывшая, забытая уже,
любимая станет любовницей на раз, на два? Так вот просто, даже не попросив
прощения за все за то? Как будто ничего и не было?». И стало вдруг ему чуть
спокойнее и легче...
И чего это твой Королев так долго клянчил на бутылку?
Куров только
махнул рукой, не зная, что сказать своей «мадам», однако, чувствуя свою мужскую
правоту — после «общения с Королевым» от него «не пахло». Да и вообще-то
никакой «вины» - по гамбургскому если счету - он за собой не знал и не хотел
знать. Вот и все! И никого обманывать он никогда не собирался, и не надо было.
Это окончательно успокоило его и так благотворно сказалось на его настроении,
что проницательная всегда «мадам» ничего и не заметила.
Когда же день
встречи настал, червяк сомнения был нейтрализован и без труда подавлен заботами
рабочего, преподавательского дня (две лекции и семинар, заседание кафедры,
библиотека). И все маршруты этого дня, словно по какому-то знаку свыше, прошли
в приличном отдалении от Оперного театра.
Когда же пробил
«час истины» и прошло контрольное время (был, правда, перебор сигарет!), Куров
почти облегченно вздохнул оттого, *что сумел не пойти на свидание... Правда,
некоторое время (дня два- три) он непроизвольно вздрагивал от телефонных
звонков, но Она, вероятно, звонить больше не стала.
Никогда...
Вероятно, есть
ночные духи, которые заставляют нас бодрствовать и во время сна, иначе меньшая
ночная половина нашей жизни стала бы для нас черным провалом беспамятства,
духовного анабиоза.
Куров никогда не
придавал своим снам особого значения (мистического или символичного), быстро забывал
их, но некоторые все-таки запоминались как бы сами по себе. Помимо его воли. И
вот один, вероятно, из последних его снов, который имел непосредственное отношение
к этой истории и который он нам рассказал. Перед тем, как нам расстаться.
... Возвращаясь
из той самой командировки в Город, он стоит и курит в туалетном тамбуре. Его
поезд ожидает встречного. Теплое солнечное утро. Врывается на станцию
встречный, как бы через силу останавливаясь, скрепя и стеная всеми
механизмами. И вдруг в окне вагона напротив он видит Н.. Отчетливо, как наяву:
заметно постаревшая, с проседью в своей элегантной прическе, с некоторой
усталостью в глубоких и чистых глазах. Вот он какой хотел ее увидеть, —
нынешней, которой так и не узнал!
Она не замечает
его, Куров изо всех сил кричит, жестикулирует и, наконец, привлекает ее
внимание. Лицо ее озаряется особенной «негромкой» улыбкой радости. Она
пытается открыть узкую оконную форточку, не получается. Куров знаками, на
пальцах, как немой, показывает, что времени мало, что он любит ее, обнимает,
целует и зовет к себе, пересесть в его поезд. Она, все с той же улыбкой, делает
жест удивления - да неужели правда? Но чуть виновато разводит руками. Куров
ничего не понимает. Тут ей удается открыть форточку. Непонятно, чей поезд
начинает двигаться. Куров тут же срывает стоп-кран. От этого поезда сразу
набирают скорость и уже летят в одном направлении — так, что окна их
«совпадают».
Грохот мешает
говорить, они что-то кричат друг другу. Он все о том же — о несправедливости
разлуки, о необходимости все, наконец, поправить...
Девочка моя! Для чего же так случилось, что тебя нет? Кому это было
надо? Кто виноват? — выкрикивает он сквозь слезы. — Го-во-ри же громче! —
умоляет он, потому что не разбирает ее слов.
И тогда она на
оконном стекле пишет пальцем, ставя в конце каждой фразы то восклицательный,
то вопросительный знак:
Ника! Ты меня не слышал, не понимал и сейчас не понимаешь. Но все равно:
я еще раз пришла к тебе, эгоисту и ребенку, который всегда боялся жизни. Ты и
чувству своему, мой Ника, не отдался до конца и безраздельно. А что мне было
делать? Я не святая, я просто женщина, которой хотелось чуточку тепла и света.
Зачем ты меня, Ника, отдал другим? Зачем обиделся вот так вот — на всю жизнь?
Ведь я на самом деле твоя мама и жена. Ты это понимаешь! Женщина твоя!.. Но
чудо состоялось - вот мы почти рядом. И разве ты не понимаешь, главное, что мы
с тобою обрели — так это счастье бесконечного прощенья!?
Последние ее
слова (он слышит их, не только видит!) тонут в железном грохоте вагонов, в
тоскливых низких завываниях электровоза. И Куров слышит только ее протяжное
«йа-а-а-а!», и о чем-то начинает догадываться. Окно ее вдруг исчезает, сменяясь
темной бездной ночи — тем черным и пустым окном в Городе. Он и не заметил, что
поезда их летели в одном направлении какие-то секунды. На самом деле, удаляясь
друг от друга. Н. находилась в зоне физической досягаемости только миг, в
который уложилось все ее признание...
После того
несостоявшегося свидания началась, или продолжилась, его «другая жизнь». И
вовсе не по Трифонову, хотя, конечно, как сказать. Он был доволен своим
житьем-бытьем и в общем даже счастлив. Его никто об этом, правда, и не
спрашивал, а спрашивать себя он постепенно разучился. Просто успокоился,
«смирился». Даже поверил в то, что, наконец-то, началась долгая уравновешенная
жизнь., которая обычно кажется нам вечной. v
Но вдруг в
обычной рутинной командировке понял, что этой «вечной» жизни вовсе не было, а
если и была, то ей пришел конец. И дожил он до этих дней лишь потому, что был
уверен, что жива и Н....
Назад
[I] Единое национальное тестирование
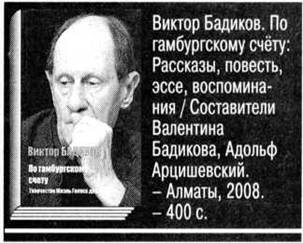 Случилось это во время служебной
командировки. Профессор Виктор Бадиков, прочитав лекцию перед школьными
учителями, возвращался на микроавтобусе домой. Виктор Владимирович сидел на
переднем сиденье рядом с шофёром. Попавший в лобовое стекло камень отвлёк внимание
водителя - микроавтобус врезался во встречную фуру. Так в Актау в автомобильной
катастрофе на 69-м году жизни трагическипогиб ведущий литературный критик
Казахстана, литературовед, эссеист, прозаик, доктор филологических наук, профессор
кафедры русской и мировой литературы КазНПУ им. Абая, автор монографий и
школьных учебников по русской литературе Виктор Владимирович Вадиков
(1939-2008)...
Случилось это во время служебной
командировки. Профессор Виктор Бадиков, прочитав лекцию перед школьными
учителями, возвращался на микроавтобусе домой. Виктор Владимирович сидел на
переднем сиденье рядом с шофёром. Попавший в лобовое стекло камень отвлёк внимание
водителя - микроавтобус врезался во встречную фуру. Так в Актау в автомобильной
катастрофе на 69-м году жизни трагическипогиб ведущий литературный критик
Казахстана, литературовед, эссеист, прозаик, доктор филологических наук, профессор
кафедры русской и мировой литературы КазНПУ им. Абая, автор монографий и
школьных учебников по русской литературе Виктор Владимирович Вадиков
(1939-2008)...